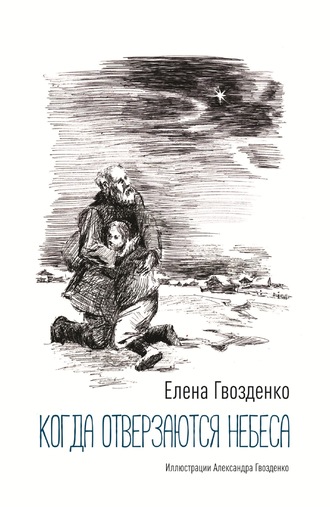
Полная версия
Когда отверзаются небеса. Рассказы
На сероватой от старой побелки стене, аккурат над столом, за которым кряхтя и причмокивая просиживают часы передышки извозчики, потягивая стакан за стаканом кипящий чай, вдруг проявилось сине-зелёное пятно. Пятно это разрасталось прямо на глазах, принимая очертания довольно страшного лица, будто кто невидимый подливал зелёную муть на глинобитную стену. Нависшие тяжёлые веки полными кулями закрывали глаза, толстый у основания нос заканчивался каким-то неприличным пятачком, а налитые огромные губы беспрестанно шевелились, будто силясь что-то сказать. Лицо становилось выпуклым, вытягиваясь, вырываясь из стены. Чуть ниже показались длинные все в фиолетовых жилах кисти рук с шершавыми кривыми пальцами, с жёлтыми крючковатыми ногтями. Они потянулись прямо к Гришкиному горлу. Послышался какой-то свист, и из тестообразных губ наконец вырвалось: «Гришка, Гри-и-и-ш-ш-ш-ка…»
− Гришка, сукин сын, что за наказание, где ты прохлаждаешься? − от голоса Терентия Кузьмича Гришка разом проснулся, подскочил с укрытого старым тулупом сундука, притаившегося под лестницей.
− Тут я, тятенька, − крикнул он, пробегая горницу, ту самую, в которой стоял стол для извозчиков. Уже на бегу скосил глаза на стену − слава богу, никакого пятна.
У постоялого двора под навесом устраивали старинный тарантас местной помещицы Ольги Порфирьевны. Дроги этой повозки были столь длинны, что никак не желали помещаться под укрытием. Васька, работник Терентия Кузьмича, укутывал дерюжкой выпирающую часть.
− Душенька Ольга Порфирьевна, с богомолья возвращаетесь? Пожалуйте, пожалуйте в светёлочку, для вас содержим-с, − хозяин склонился в почтительном поклоне. Пожилая дородная помещица, укутанная по самые глаза бесчисленными шалями, тяжело поднималась на крыльцо.
− Надеялись до темна успеть, а глядишь, непогода-то, − сокрушалась помещица, оглядывая узелки и корзинки, которые кучей стояли у самых дверей. Заметив озабоченный взгляд гостьи, дворник[2] принялся поторапливать работников:
− Что вы как неживые! Несите, несите кладь наверх, в покои, что для Ольги Порфирьевны приготовлены. Гришка, подсоби.
Схватив котомки, Гришка бросился в горницу, столкнувшись в дверях с Софушкой, воспитанницей барыни, которая сопровождала старую помещицу во всех её поездках. Девушка смущённо опустила взгляд. Да что девушка, Гришка и сам засмущался, предательские красные пятна расползлись по лицу. Уж больно девица хороша: ладный стан, глаза, как омуты, ресницы, что щетина на щётке, которой Васька лошадей причесывает. Эх, кабы свободно сердечко было, кабы не жила в нем Федосеюшка. Да и то, какая Софьюшка пара ему, она, поди, из благородных, любимица старой помещицы, чай, другого жениха ей сыщут, не сына дворника. Но на миг молодой парень застыл совсем близко, вдыхая аромат луговых трав и сдобной выпечки, что исходил от девушки. Лишь окрик отца добавил прыти обоим.
Терентий Кузьмич собрал всех своих насельцев в людской: сына Гришку, прыткого Ваську и неповоротливого Мишку, работников постоялого двора, кухарку Акимовну да кривоглазую девку Матрёну, справляющую остальную бабью работу.
− Хозяйство наше сильно запущено, − начал он, прокашлявшись, и по тому, что замолкал надолго, что не рвал горло криком, а говорил тихо, будто виновато, чувствовалось, что хочет сообщить что-то важное, − Хозяйку я уж годков семь как схоронил, вы знаете. А без бабы какая управа? Надумал я новую жену себе сосватать, будет кому за вами углядывать. Гришку-то, наследничка моего, отошлю на свои хлеба, с ним отдельно побеседуем. Решил я самолично уведомить, чтобы никаких шушуканий за спиной − дюже я сплетен не люблю.
Старая Акимовна одобрительно покачивала головой, а кривая Матрёна прямо спросила:
− Присмотрел уж кого, кормилец?
− Не твоего ума дела, тебя не спрошусь. Давай-ка лучше помещице угождай, не часто к нам такие гости езживают.
− А что я? Я только спросила, батюшка.
− Кривоглазый мерин твой батюшка, − хохотнул Терентий Кузьмич, ущипнув за то место, за которое принято щипать молодых сочных девок.
− Что уставился, поди умеешь с бабами-то обходиться. Пойдем, потолковать надо, − кивнул хозяин сыну на дверь в маленькую каморку. Эта каморка, самая отдалённая комната постоялого двора, служила дворнику и спальней, и кабинетом одновременно. Китайские ширмы, выкупленные по случаю у проезжего купца, скрывали кровать с коваными спинками, застеленную ситцевым одеялом, рукоделием Матрёны. Вдоль стен громоздились огромные сундуки, ключи от которых хозяин постоянно носил с собой, не доверяя даже сыну.
− Решил я, Гришка, − степенно начал Терентий Кузьмич, усаживаясь за дубовый стол, − отделить тебя. Сам посуди, негоже тебе рядом с моей молодой женой находиться. А там, кто знает, может, ещё детки пойдут, на всё воля Божья. Но и тебя не обижу. Что нахохлился?
− Так, тятенька, я вам волю свою говаривал, ждал, что сватов к Федосеюшке зашлёте.
− К Федосеюшке? Забудь про Федосеюшку, у нас уже с батькой её обговорено, на Покров обвенчаемся с ней.
− Да как же? Я же…
− Как же, как же, − передразнил сына. − А вот так же. По твоему слову стал я к ней присматриваться, да уж больно девка справная, сладкая, что твой мёд.
− Батенька, мне ли такие речи слышать, вам ли сказывать?
− Мели, Емеля! Что причитаешь, будто старая Лукерья? Дурная кровь. Связался с ведьминым отродьем.
− Негоже, батюшка, память матушкину поганить! Побойтесь Бога.
− Али не прав? Старуха до самой смерти всё шептала, травы сушила да сказки сказывала, дочка её к работе ленивая была, всё по лесам шаталась. Да и дошаталась. А ты подумал, каково мне было одному двор содержать, тебя растить?
− Так в чем вина матушкина? В том, что от работы да побоев в могилу раньше времени легла?
− Не перечь отцу! На неделе отправляйся в соседний уезд. Слыхал я, что Никишка двор свой продает, обсмотри, что и как. Коль по сердцу придётся, будешь сам хозяин. А дома я тебя не потерплю.
− Батенька, да ведь у нас с Федосеюшкой любовь.
− Любовь. Что ты о любви знаешь-то? Чай, прижал её где в тёмном углу, вот и вся любовь. Али спортить успел? – глаза Терентия Кузьмича налились багрянцем.
− Не такая она. Да я и глянуть в её сторону боялся. Эх…
− Ну и хорошо. Езжай, говорю, чтобы и духа твоего не было.
Осень в лесу, отрада сердцу ясному, щедро сыпала медью да золотом, серебром паутинки одаривала. Но не замечал Гришка красоты осенней, несли его ноги молодые дальше и дальше в самую глубь, лишь лоскутки от сюртука на голых ветках оставались. Так бы и бежал, пока не упал замертво, да дорогу ему старушка перегородила. Пригляделся − чудо чудное, бабка его, Лукерья, которая, почитай, годков с десяток сырую землю косточками своими грела. От такой встречи захолодило в голове, упал парень под высоким дубом, зарылся в листву палую, зарыдал. А старуха подошла, руками шершавыми по голове гладит, успокаивает:
− Не пришло твоё время, милый. Силушку в кулак собери да езжай по батькиному веленью. Дурные мысли из головушки выветри.
− Не мил мне свет без Федосеюшки. Как вспомню её, будто связанный. И как мне жить, зная, что батькины руки её, будто Матрёну, похлопывать станут?
− Эх, сердечный, знаю печалюшку твою, гони злое. Не просто мне было свиданьице с тобой выпросить, уберечь хочу. Время для тебя настало трудное, помни, что бы ни случилось, душу свою береги. По земельке ходить трудно, много соблазнов, но ни один из них не стоит души искалеченной.
− Душа… Да что мне душа без Федосеюшки? Захочу – дьяволу продам, только бы рядом была. Помнишь, рассказывала мне в детстве о Фармазоне?
− Что ты, что ты, милый, и имени его не упоминай. Грех был, рассказала тебе, мальцу, да ты забудь. Коли не послушаешь, большая беда тебя ждёт.
− Беда? Свадьба батьки с Федосеюшкой – беда, − скрипнул зубами Гришка.
Глядь, а вместо старухи пень трухлявый.
На дворе суетились, каждый своей работой занимался. Акимовна с Матрёной то и дело сновали между кладовой и ледником, барыне разносолы готовили. Мишка с кучером барским валёк с постромками крепили, Васька по двору сновал, на худо лежащее хозяйское добро глаз косил. Вошёл Гришка в дом − будто бы и не было разговора с отцом, будто не жёг в груди огонь гневливый. А отца-то и нет − к его любушке с подношениями отправился. И помещицу не постеснялся оставить, знать, сильно привязала Федосеюшка. Мысль эта только прыти добавила, бросился в свою каморку, открыл сундук с пожитками нехитрыми, где под исподним припрятан был портрет его, Гришкин. В прошлом году загостился у них художник один, что в соседнем уезде дом купеческий расписывал, да прокутил весь барыш, а платить нечем. Решил тогда Терентий Кузьмич хоть портретами с него плату стребовать, мол, какая-никакая отрада, да и солидности добавляет, постояльцам трепет внушает. Свою личность велел в главной горнице повесить, а Гришкину образину спрятали в сундуки до поры.
«Вот и пригодился портретец», − думал парень, заворачивая его в старую холстину. Присел к окошку, второпях составил грамоту − некогда над слогом размышлять, смеркается, и вон из опостылевшего дома.
А в поле трава потемнела, пожухла, будто лик пожилой крестьянки. Журавлиный клин над головой стонет-плачет: «Воротись, воротись». Покружили да отправились в своё птичье путешествие. Присел Гришка под берёзкой, что белела одиноко у самого края. Посидел, подумал, что он так же одинок, как это деревце, что беззащитен под ветрами, стужами, пред подлостью человечьей. И нет у него ничего, даже воли, разве что душа осталась. Только зачем она ему больная, рваная, зачем огонь этот в груди? Пусть уж лучше стылость январская.
Как стемнело, пошёл он дальше в пустое поле, дальше от езженых дорог, туда, где хозяйствует холодный сырой ветер. Долго шёл, всё думал. Остановился лишь, как споткнулся о камень, больно ударив ногу. И боль все сомнения рассеяла. Вскочил Гришка на камень, раскрыл руки и закричал со всей мочи:
− Фармазон! Фармазон, отзовись, я пришёл душу свою продать!
Вдруг налетела буря, рвёт чахлые кусты, в столбы скручивает. Загудела земля, застонала. На миг ослеп и оглох парень, а когда очнулся, перед ним чудище двухметрового роста. Под кулями-веками горели красным пламенем глаза. Нос неимоверной толщины сужался до ниточки и на самом кончике превращался в свиной пятак, беспрестанно раскачивающийся из стороны в сторону. Рот, словно перестоявшаяся квашня, надувался огромными пузырями, расползался по синеватому лицу.
− Звал меня? – прошипел-прошептал Фармазон.
− Да, дело есть к твоей милости. Есть у меня товар, к которому ты интерес имеешь.
− А за иным меня в гости не зовут. Вижу, приготовился справно, грамотку принес и портрет в холстине прячешь. Ты мои условия знаешь, а что от меня хочешь?
− Хочу Федосеюшку в жёны.
− А как же отец?
− А отец пусть в сторонку отойдёт, не мешает. Любим мы друг друга.
Фармазон лишь усмехнулся.
− А богатство как? Неужели не хочешь богатства? На что жить-то с молодой женой будете?
− Да никакого особого богатства мне не нужно, лишь бы на жизнь хватало.
− Ну что ж, будь по-твоему, − бес протянул Григорию булавку, − коли´ левый мизинец да расписывайся в грамотке своей.
− И читать не будешь? – удивился парень.
− Так я её ещё до написания прочёл. Расписывайся да давай портрет.
Гришка торопился, боялся передумать. Имя нацарапал криво, протянул бумагу бесу. Фармазон рассматривал творение художника.
− Смотри, теперь наш договор крепко-накрепко повязан, − сказал он, возвращая портрет. − На стене повесить не забудь.

Шестой год хозяйствовал Григорий Терентьевич, шестой год прирастал богатством. Аккурат с того дня, как батюшку его, уже холодного, привезли на дрогах. Сразу три трупа в Волошковом овраге, в трёх верстах от постоялого двора, обнаружили крестьяне в тот злополучный день. Старуха-помещица Ольга Порфирьевна была задушена своей же шалью. Над её воспитанницей Софушкой сначала надругались, а затем так же задушили шейным платком. Труп хозяина постоялого двора с перерезанным горлом находился поодаль, шагах в тридцати. Тарантас помещицы нашли рядом, в кустах, из всей поклажи исчезла лишь шкатулка с драгоценностями − с ней старуха не расставалась даже в своих путешествиях − да вышитый кошель с неизвестной суммой денег. Григорий Терентьевич до сих пор помнит приезд сыскных чинов, дознание, отнимающее последние силы, и наконец скромные похороны. Васька, пропавший той же ночью, был объявлен в розыск. Решили чины, что в тот день Терентий Кузьмич догадался о Васькином желании старую помещицу ограбить и отправился вслед за уехавшей Ольгой Порфирьевной, но, видно, не успел. Застав разбойника над трупами, дворник набросился на него и был убит сбежавшим впоследствии слугой. Ваську так и не нашли.
Шесть лет минуло с той поры, а Григорий Терентьич до сих пор помнит, как сразу после похорон явился к родителям Федосеюшки с предложением отдать ему девицу за крупный выкуп, благо сокровища, до поры сокрытые в сундуках отца, позволяли. Не в жёны брал, для забавы − не мог простить сговор с отцом да и венчаться не желал. Родители посокрушались, а девку всё же продали. С тех пор много воды утекло. От былой страсти и следа не осталось, бродит теперь Федоска по двору тенью, осунулась, состарилась. Теперь уж не берёт её Григорий Терентьич в свою опочивальню − новая забавушка в дому хозяйствует, молодая бойкая черноокая Грунечка. А Федоску всё ж не гонит, одна она как напоминание о прежней жизни, о годах молодых, когда сердце иначе билось.
Спервоначалу, как батьку схоронил, бросился Григорий Терентьич в разгул, навёл полный дом приятелей-однодневок да девиц беспутных. Федосушка молчала, лишь бросала на хозяина взгляд, полный смертельной тоски. Но Гришка с той ночи, как грамотку подписал, лют стал, безжалостен, будто бронёй сердце закрыл. Метался молодой хозяин, в бутылке, ласках продажных да речах льстивых себя искал. Но, видно, не помогло.
Тогда в коммерцию ударился. Прикупил Григорий Терентьич лавок на ярмарке, торговлей занялся да так успешно, что деньги к рукам сами липли. Расстроил двор, хоромы купеческие завёл, в самом виду, вместо божницы, портрет повесил, тот самый, что когда-то брал с собой в чисто поле. И удивительное дело, портрет этот ему стал вроде семьи, с ним он разговоры долгие вёл, закрывшись от чужих глаз, ему рассказывал о планах, ждал совета. И чудилось, что юноша на портрете отвечает, если не нравится что, хмурит брови, а коль одобряет, светится улыбкой.
И чем больше капитала в руках молодых, тем тоскливее лицо хозяина. Только и радости осталось купцу – с портретом поговорить. Остальное будто кануло. Всё чаще оставался он в той комнате, всё реже выходил из неё. Настало время, когда и лавки свои забросил. Оброс, одичал, забывал про еду и сон. А однажды целую неделю за запором просидел. Тут уж Федосеюшка не выдержала, попросила слугу, сломали дверь, а Григорий Терентьич не узнаёт никого – сидит на полу, портрет в руках держит. Хотели за доктором послать, да вырвался он и убежал как был в домашнем халате с портретом в руках. Трое суток искали, но так и не нашли.
Федосеюшка отправилась по богомольям, прибилась к странницам да ходила по миру. В одном из монастырей услыхала она про человека Божьего, что поселился на острове и в одиночку Храм строит. Говорили о нём как о человеке редкой праведности, и решила Федосеюшка разыскать отшельника, помочь ему в трудах, авось душа хоть толику тоски сбросит. Добралась до реки к вечеру. Холодный ветер гнал кудряшки волн, присыпанных первой жёлтой листвой. В тот миг как разглядела она остров, закатное солнце выпорхнуло из-за сизых осенних туч, осветив добротный сруб, возвышающийся над поверхностью реки. И почудилось Федосеюшке, что Храм этот недостроенный лучами до самого неба достает. И от этого столба света отделилась вдруг фигура. Глядит Федосеюшка и глазам не верит: Гришка это, молодой, прежний, только лицо будто обожжено.
До самого утра говорили. Рассказал Григорий, как выменял её у Фармазона на душу, да только без души и любви не стало. Как жил-не жил все эти годы, как выпросил назад вместилище греха и света. В ту ночь побежал он в поле, стал звать беса, просить о пощаде. Не сразу явился Фармазон, а лишь как посулил Гришка капиталы, что нажиты, на милостыню раздать. Пришлось бесу смириться, взял он портрет из рук безумца да выстрелил в него. С тех пор лицо и покалечено печатью дьявольской. Небольшая расплата за избавление от греха тяжкого, за возвращение души. За жизнь в любви, без страхов − все страхи в нём тем выстрелом убило.
А к весне достроили они свой Храм да и обвенчались в нём.
Похороны ведьмака
Старый Игнат отходил. Третьи сутки не вставал с лежанки − закусывал край поддёвки, которой заботливо укрывали сыновья, заходился в кашле. Временами из впалой груди вырвался то ли крик, то ли рычание.
− Совсем плох батька-то, − всхлипывал младший из братьев, Касьян.
− Тю, пустомеля, может, ещё встанет, − старший Наум от усталости к сумеркам ног не чуял − хозяйство крепкое, догляда требует.
− Сыны, сыны, − позвал отец слабым голосом.
− Что, батька, водички али взвару? − Касьян уже бежал до сенцов с кружкой.
− Подойдите оба, − прошептал умирающий.
В красном свете закатного солнца лицо Игната казалось багровым.
− Помру я скоро, − старик зашёлся в долгом кашле.
− Может, обойдётся, батька, − всхлипнул младший.
− Не перебивай, знаю, что говорю. Пришла пора исполнить последний зарок. В деревне не любят меня, не хочу в Уварове лежать. Схороните меня в Хмаре, завтра же поутру поезжай, Наум, сговорись о месте и обо всём, что требуется. Могила пусть будет к вечеру готова. Но это не всё. К могилке, как срок придёт, пусть везет меня Голыб.
− Батька, да как же это? Прошка Голыб – беднота деревенская, не нам чета, что люди скажут? Да и враждуете вы, сколько себя помню, − Игнат даже поперхнулся.
− Ишь ты, ишь ты, разошёлся. Командовать будешь после похорон, а пока изволь исполнять. Не то, − глаза старика сверкнули недобрым блеском, − и с того света достану.
* * *Тяжки Прошкины думки, ох, и тяжки. Старшую дочку сосватали, а радости нет. На Покров и свадебку затеяли, надо приданое готовить, а в избе ни холстинки лишней. Бедно живут Голыби. Вроде и в работе споры, а только достаток в окошко глянет, беда уж за порог. Не успели отсеяться, кобылка сдохла. А как крестьянину без лошади? И без того в доме одни бабы, Глашка его только девок и рожает. И на заработки не уйти, не оставить домочадцев без пригляда, и помощи ждать неоткуда.
Не успел о беде подумать, она тут как тут – Наум калитку отворяет.
− Незваный гость пожаловал. С какой нуждой, соседушка?
− Батька отходит.
− Давно пора, черти уже заждались.
− Вот за что ты, Прошка, отца моего честишь? Со всеми он в ладу жил, только ты, сосед, проклятия шлёшь.
− Так все знают, что ведьмак твой батька. Знают, да боятся. А у меня с нечистыми разговор короткий, − Голыб перекрестился.
− У меня до тебя дело есть.
− Нет у меня дел с ведьмаковскими отпрысками.
− Зря ты так. Батька наказал, чтобы ты его гроб в Хмару отвёз. Мы тебе сто рубликов серебром отсчитаем.
− Иди, иди, пока поленом не отходил. Ишь что удумали, ведьмака везти! Разговору быть не может! − Прошка вытолкал соседа и калитку захлопнул.
А в доме Глашка сундук свой перебирает, слёзы тайком утирает.
− Стыдно-то как, Прошенька, девку снарядить не можем.
− До Покрова время есть, даст Бог, разрешится как-нибудь.
− Да как разрешится-то, разве клад найдем.
− Ну, не плачь, лучше вечерять собери, пораньше спать ляжем.
Намаялся за день Прошка, а сон не идёт, тревога сердце гложет. Вышел во двор, присел на поленнице. Тихо, будто и живых в деревне не осталось, только ветерок калиткой постукивает. Поднялся Голыб калитку покрепче затворить, а то уже не ветерок, ураган, с ног валит, шуршит, треплет крыши соломенные, деревья до земли гнёт, гудит, будто скоморох на ярмарке. И собаки ветру вторят, такой вой подняли – жуть. За ними и коровы проснулись сразу во всех дворах, не мычат – стонут. А ветер всё сильнее и сильнее, вот уже и двора не разглядеть, пыльным туманом занавесило.
− Двести рублей, Проша, − прозвучало у самого уха.
Голыб аж подпрыгнул, закрестился часто-часто. Глаза от пыли оттёр, видит − Касьян рядом.
− Ты как пробрался, окаянный?
− Дырка у вас в заборе. Двести рублей, Проша, − повторил он. − Отошёл батяня.
− Хоть всего серебром обсыпьте, не повезу. И толковать не о чем. Сами своего ведьмака хороните.
− Так ведь наказ батькин.
− А мне что за нужда, бесовского служки наказы исполнять? Иди прочь.
* * *К утру стихло всё, будто и не было ночного урагана. Кабы не раскиданные вороха соломы да сломанные ветки, Прошка решил бы, что всё приснилось.
Пока во дворе порядок наводил, кум Захар в калитку стучит.
− Слыхал, прибрался ведьмак-то. Всю ночь скотина бесновалась.
− Как не слыхать, меня сынки его оповестили. Хоронить наказал не в нашей деревне, а в Хмаре. Меня подряжают везти. И после смерти не даёт мне покоя старый чёрт.
− Я за тем и пришёл, батька послал. Иди, говорит, к Голыбу, чую, беду ему Игнат готовит.
− Так я и не поеду.
− Зря, не поедешь − не упокоишь, будет в деревню возвращаться. Надо ехать, а спастись тебе поможем.
* * *К обеду опять гости в дом, оба брата на пороге.
− Езжай, Проша, триста рубликов положим, только езжай, − Наум мялся у порога.
− Езжай, Проша, пожалей нас, страшно нам батькину волю не исполнить, − вторил Касьян.
− Ну что ж, я готовый, только у меня свои условия есть. Перво-наперво, повезу на ваших лошадях, завтра запряжете пару.
− Согласны, о чём речь.
− Гроб с покойником обвяжите покрепче, верёвок не жалейте, иначе не поеду.
Сынки ведьмака лишь головами кивают.
Выпроводил Голыб соседей, сам сел лапотки переплетать, как наказали, чтобы пятку с носком спутать. Глашка по избе мечется, уговаривает отказаться. Молчит мужик, знай, руками проворит.
На следующий день долго молился Прошка, а потом, будто решился, обул переплетённые лапти, заткнул за пояс топор и вон из избы.
У соседнего двора вся деревня в сборе, судачат, обсуждают, как сыновья гроб отца веревками обматывают. Заметили Голыба, закрестились, запричитали. А Прошка не оглядывается, подхватил лошадок под уздцы да повёл прочь из деревни. Помнит наказ батьки Захара: на телегу не садиться да всю дорогу молитву творить.
Не успела деревня скрыться за холмами, застонал покойничек, зашевелился, по крышке стучит, а выбраться не может. Прошка быстрее припустил. Шепчет молитвы, а сам прислушивается: показалось ли, будто верёвки лопнули? Вот уже и роща впереди, а за ней Хмара − довезти бы. И тут как на грех споткнулся Прошка, упал, да вместо молитвы бранью разразился, а как поднялся, покойник уж во весь рост на телеге стоит.
Спрыгнул Игнат и давай по земле рыскать, следы высматривать. Голыб ждать не стал, помчался к роще во весь дух. Бежит, оглянуться боится. Увидел сосну покрепче – полез, до самой верхушки добрался. А Игнат уже под деревом, рычит, в ствол вцепился, а влезть не может. Прошка за ветки держится, Бога поминает − совсем худо, покойник гнёт сосну, как тростинку. Гнёт и воет: «Слезай, ворог мой, слезай. Вместе в загробный мир уйдём». Зажмурился Голыб, страшно смерти в глаза смотреть, и не сразу понял, что дерево трясти перестали. Посмотрел вниз − стоит какой-то странник в одежде незнакомой: сапоги со шпорами, шляпа, сабля из-за пояса торчит.
− Слезай, зачем на дерево забрался?
− Ведьмак убить хочет.
− Нет никакого ведьмака, слезай.
Прошка осмелел, спустился, а сам крестится да на незнакомца поглядывает: вдруг это сосед в новом обличье. А тот лишь усмехается:
− Пойдем, покажешь, где твой ведьмак.
Что за диво: гроб пустой, крышка на дороге валяется, а Игната нигде не видно. Глядь, из-под телеги ноги торчат. Вытащили они колдуна – мертвец мертвецом, лишь желваки устроили пляску на восковом лице. Уложили его обратно в гроб, закрыли, а незнакомец достал саблю да надсёк крест на крышке.
− Езжай, мил человек, больше не встанет.
Захотел Прошка поблагодарить, а незнакомца и след простыл, будто и не было. А только случилось всё, как сказал: до Хмары довёз, сдал священнику да обратно отправился. А на вырученные деньги не только приданое справили, но и скотинкой обзавелись.
Бука
Мягко поскрипывают выездные сани, периной стелется накатанная зимняя дорога. Кутается Ивашка в новый белёный полушубок, что батька привёз накануне Рождества, подстёгивает лошадёнку, торопится. Вот явится этаким купчиком, по улице промчится – не чета деревенским. А и правда − статен, румян. Не зря вдовая купчиха Пустошеева выделила, не зря.


