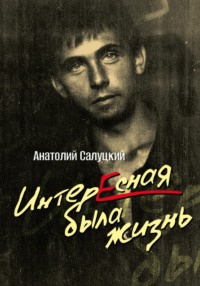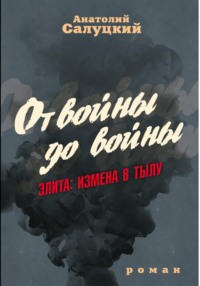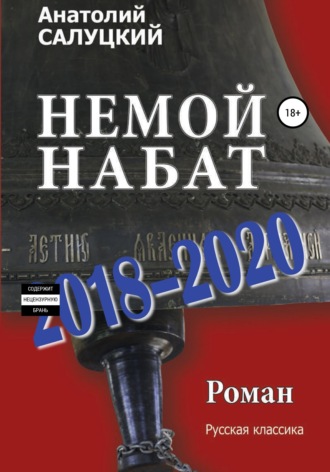 полная версия
полная версияНемой набат. 2018-2020
– Народ вот-вот начнёт праздновать победу над самим собой, – расхрабрился Синицын.
– Да-а, любопытно, – неопределённо протянул Власыч, чувствуя, что негабаритные речи этого провинциала, который жжёт без стеснений и оглядок, не вписываются в умозрения думской тусовки. И хотя в мозгу Донцова чесались вопросы по поводу столь неожиданно трактуемой «приватизации президента», расчехляться не хотелось, не тот случай.
А Жору уже не остановить, он поддал жару:
– Чтобы всё осталось, как есть, надо всё изменить. У нас теперь иначе не мыслят. От Москвы чего-то ждут, а чего – сами не знаем.
– Вот вам и образ будущего. Прозренцы-то на местах, а мы их и не слышим, – после новой паузы подвёл неутешительный итог Лесняк, изобразив муляж улыбки. – Владислав, накатим по маленькой? Давно не чокались.
Компания слегка пригубила коньяку и стала рассасываться.
Лесняк с Власычем пошли наверх.
– Ты Лесняка походя в нокдаун отправил, – улыбнулся Добычин. – На нём такие костюмчики не сидят. Однако же ты вмиг прославился, твой провинциальный приговор теперь по всей Думе зашелестит, ссылаться будут. Жди навара с известности.
– Кто этот Лесняк?
– Формально рядовой депутат. Но к его оценкам прислушиваются. Из тех, кто мнение формирует.
– А Власыч?
– Приятель его из коммерческой прослойки. Бизнесмен, станкостроением увлёкся, дело святое. Потому в Думе и ошивается, проталкивает интересы отрасли. Кстати, кого предпочитаешь: лицедеев или лицемеров?
– Ты по поводу Лесняка?
– Не только, здесь таких много. На людях смирные, великих благ чаятели, а по заглазью ого-го как правду-матку режут. Живут двусмысленно и двуязычно. Надо понимать, с кем имеешь дело.
Условно говоря, один курит сигареты, а другой лузгает семечки.
– Но Лесняк-то, Лесняк? – добивал Жора.
– А Лесняк вроде макарьевского сундучка. Там, слышал, по шесть штук один в другой вставляют, как матрёшки.
Глава 5
Богодуховы перебрались из Тулы в Первопрестольную по случаю. Виктора Ивановича, сцепщика вагонов – шапка набекрюшку, – послали на подмогу в депо Лихоборы. Там он чистил паровозы, следил, чтоб ремонтные ключи выдавали в рейс полным комплектом – без инвентарного набора инструментов в пути встанешь намертво, – чтоб маслёнки до краёв наливали смазкой нужных сортов, а в кабине было чисто, как у монашенки в келье. Жили в нищете, да в святости. В итоге исправного туляка определили на курсы машинистов и приманили комнаткой для семьи. Спустя год за ним закрепили паровоз под номером 1675, он водил составы по Окружной дороге.
Жизнь шла в рост. И вдруг – сброс на ноль. Богодухов разделил судьбу своего поколения, погиб 4 августа сорок первого под Смоленском – у села Секати Батуринского района, как гласила похоронка, титулованная «Извещением».
Это Извещение стало единственным наследством сына Сергея, не раз помогая в жизни. Когда со Щёкинского химкомбината его выдернули инструктором отраслевого отдела ЦК КПСС, пожилой кадровик, наверняка в прошлом фронтовик, так и сказал:
– Считай, тебя погибший отец рекомендует.
В цековских порядках Богодухов разобрался не сразу, но основательно. Для обывателей аппаратчики Старой площади, бренд «ЦК КПСС», в те времена считались номенклатурной кастой. Лихие эстрадники с дипломами врачей Лившиц и Ливенбук, растворившиеся в далях забвения, однажды отмолотили на сцене стих Чуковского «Муха-Цокотуха», с непозволительным намёком сделав особое ударение на двух магических буквах: «Муха-ЦКтуха», и невинная реприза отозвалась ликованием в среде «профессионалов недовольства» – свободомыслящей публики, заверещавшей на кухнях о подрыве зловредных партийных устоев. Считали, что это крайняк, смелый вызов власти, растабуирование запретного.
Но на деле аппарат ЦК КПСС был неоднородным.
В отраслевых отделах вкалывали, по самоназванию, «серые лошади», народ тягливый, от сохи, со своей шкалой смыслов, не утерявший связи с низовой толщей, – работяги, пахавшие глубоко, колесившие из края в край бескрайней державы. Отраслевые отделы подменяли министерства, что было стратегической ошибкой партийных верхов. Для рядовых аппаратчиков нелепый дубляж оборачивался каторгой. Правда, с материальными бонусами.
И совсем иное дело – заграничники из международных отделов, Агитпроп, орговики. Туда брали белую кость, голубую кровь, там вершилась политика, прочищавшая уши и просветлявшая умы соотечественников, а в случае надобности вразумлявшая кое-кого по сусалам. От этих дирижистов исходили веяния, упакованные в форматы постановлений, решений. Там ценились «хафизы», наизусть знавшие «коран» политического двоемыслия.
Между отраслевиками и политиканами издавна выросла незримая ментальная перегородка. При внешней учтивости в душе заграничников жила неистребимая старопоместная спесь лакея, угождавшего барину и презиравшего мужика. Впоследствии, когда жизнь перевернулась, из тех потаённых настроений позднесоветской элиты вырос мем «быдла» в адрес простонародья. А отраслевики называли заграничников и агитпроповцев «министерством странных дел».
Но по работе «серячки» и забойные отделы пересекались нечасто, и скрытая неприязнь выплескивалась лишь в откровенных кабинетных перемолвках, не сказываясь на формальных отношениях. Сор из избы не выносили, пока обаяние неведомого, – этим поначалу привлёк извечных русских очарованных странников обольстительный перестроечный манок, – не сменилось тревожной непредсказуемостью из-за шараханий партийных вождей.
И когда пошла чехарда в партии, отчуждение, разделявшее отраслевиков и политиканов, стало стеной недоверия. В одночасье обнаружилось, что несогласия внутри аппаратного сообщества слишком глубоки. Отраслевики с их намоленными связями на местах в глазах перестроечного авангарда стали тормозом.
Вросшие в хозяйственную почву, они быстро ухватили, что теневая, подпольная советская экономика начала бесстыдно прорастать в структуры власти, бешено тянувшей к рынку. Цеховики, вышедшие из подполья, повели с политиканами цыганский торг. На место диссидентов-шестидесятников выдвигались доморощенные прогрессисты, передовые мыслители, партийные восьмидерасты. Зашевелились гниды под расчёской: вспомнили о трансформизме Антонио Грамши по изменению национального психотипа.
Аппаратное противостояние становилось опасным. Из кабинетов перекинулось в курилки, на совещания разных уровней. И хотя расхождения ещё носили закрытый характер, но – уже с мстительными обертонами.
Дуб сохнет с головы. В корне расклад изменился, когда Горбачёв, плюнув на Конституцию и мировую практику, совместил два высших поста – в государстве и партии: президент сохранил должность Генсека. Такого злополучия никто не ждал.
Шулерский горбачёвский трюк щипача – под флагом гласности! – расставил точки над «i». Отрыв слова от дела стал катастрофическим, политическое сожительство – невозможным. Понимая, что надлом свершился, что из крутых яиц яичницу не сварганишь, не стесняясь поветрий устной русской речи, отраслевики с тоской и чугунными мыслями наблюдали, как президент, стоя враскоряку, лихорадочно тащит к себе сквозь бутылочное горлышко двоевластия перевёртышей из политиканских отделов Старой площади. Все цековские «покойники» оказались живёхонькими в Кремле, срочно разучивая новые политические роли. А оставанцев, неуместных людей, партию в целом готовили к закланию. Вступала в права новая, пока ещё конспиративная власть.
Давняя трагедия повторялась нудятиной, фарсом. В дни Большого террора 1937 года люди шли под расстрел с именем Сталина на устах. На финише перестройки, осознав предательство партийной верхушки, презрев библейские сказания о мудрости членов Политбюро, парализованные запахом страха, дрессированные цекистские аппаратчики, хлопая ладонями и ушами, понуро брели в никуда под кнутом партийной дисциплины. Они понимали, что у партии теперь незаконный начальник, но были не в состоянии осмыслить простую до наготы истину: у незаконного начальника – не подчинённые, а сообщники. И в основном предпочли зажмуриться.
Однако в «разночинной» среде аппаратных отраслевиков, у которых, по Есенину, была «слаба гайка», нашлись и крутыши, люди иных настроений, не готовые робко бытийствовать в пожаре грозных событий, не считавшие себя сообщниками измены. Среди них и Сергей Богодухов.
Цековская номенклатура всегда оставалась для него не более, чем факультативом, дополняющим реальное дело, её сапоги всегда жали ему в коленках. Познав мысли, настроения и повадки высшего партаппарата, он воспринимал формулу «Партия – ум, честь и совесть эпохи» в одном формальном ряду с усвоенным в детстве «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», чему учила мама. Чуткий к голосу судьбы, он за гранью повседневности угадывал большее, лучше других оставанцев распознавал в политических конвульсиях горбачевизма не просто борьбу за власть, а стремление перекроить Россию по чужеземным лекалам. Предательство «реальных пацанов» из верхушки возмущало, взрывало мозг не опасениями за судьбу партии, страшило не цинизмом, а угрозой государственного нездоровья, демонического зла, густого сумрака, которым накрывал Россию меченый Князь Тьмы.
Но на заветное цены нет! Богодухов отказался от пустых, маскарадных, негласных потуг группы оппов, как пометили наверху внутренних оппозиционеров, противостоять духу разложения, сифонившему с вертлявых партийных верхов, и со страстью бросился в публичную стихию, которая в те торопливые дни вознесла рядового инструктора ЦК КПСС на девятый вал недовольства перестройкой. Он говорил со знанием дела: Генсек и Президент в одном лице тянет Россию на разрыв. Итогом змеиных зигзагов станет катастрофа, наихудшая из возможных. И с самой высокой трибуны, доступной ему, – Колонный зал! Многотысячная возбуждённая толпа! – Богодухов догола раздел хромого архитектора перестройки, за которым прочно укрепилась слава агента влияния, назвав его «мудрейшим из пустозвонов» с неопрятной шумихой слов, наторевшим в политическом двуличии и глядящим Наполеоном.
Чувствительный удар по верхушке партийной власти простить инструктору ЦК КПСС не могли. Уже через день хищная, честолюбивая, как Макбет, личность из Политбюро, которого по-пушкински «проныром лукавым» ославил Богодухов, приказал перевести его в отраслевое министерство – и мелочно, в отдел, назначенный к расформированию, министерство уже падало. Демиурги демократического централизма не стеснялись: в ЦК КПСС, цитадели «высшей справедливости», не было профсоюзной организации, инструкторы ЦК, словно крепостные, даже формально не имели защиты от своеволия начальства, находясь в плену его усмотрений. Дисциплина зиждилась не на идее – на страхе.
В родном отделе проводы не устраивали. Но в узком кругу за рюмкой «Столичной» Богодухов пнул ногой стул, на котором по-чиновничьи натирал «седалищные щёки», и ухарски посетовал:
– Батюшки свет, пятнадцать лет на этой пыточной дыбе отдавал себя в жертву геморрою!
Он ушёл из ЦК без сожаления, даже весело, не явившись по новому месту работы. В сердце жила надежда, что, поплевав на ладони, горы свернёт, найдёт своё место в стремительном круговороте последних месяцев умирающей державы, которую вполне земные силы готовились безжалостно спустить в унитаз истории.
Но не знал Богодухов той степени коварства, с какой хунта партийных предателей преследовала своих идейных противников, даже поверженных.
Глава 6
Как обычно, о неурочной встрече в «Доме свиданий» Подлевского известили накануне, что вынудило срочно перекроить деловой график.
Его жизнь состояла из бесконечной череды встреч, и он кокетливо называл себя фрилансером, ибо не имел на балансе активов, а промышлял высоким процентом с махинаций в бизнесе, с финансовых выяснюшек, со сделок по договорённостям с властью. Приятные манеры и клиповое мышление в духе нашего времени, с лёгкостью позволявшее подменять сущность формой, зачастую делали его незаменимым. Подлевский был не решалой, которых в своём от природы артистичном сознании уподоблял тореадорам, красочно завершавшим корриду, но классическим «нужником». К решалам он, кстати, относился скептически, зная, что эта заносчивая публика, образно говоря, не прочь подворовывать по квартирам столовое серебро. Себя он скромно причислял к пикадорам, готовящим эффектную концовку. С ним не заводили дружбу, да он в ней и не нуждался, его с лихвой устраивал колоссальный круг знакомых. Все знали, что он годится на роль смазки, облегчающей притирку контрагентов.
Подлевский намеренно не обзаводился фирменным брендом, выступая исключительно в личном качестве. Персонал имел лишь технический, зарплату выдавал в конвертах. В дешёвый арендный кабинет за непрестижной Семёновской заставой клиентов не приглашал.
Это был своеобразный, если не сказать, странноватый человек. По размаху дел и знакомств мог содержать солидную консалтинговую фирму, объёмом личного капитала был вровень со многими из тех, кого обслуживал: блатная жизнь дешёвой не бывает. Предпочитал играть роль фривольного любителя кружевных труселей с бахромой и девок-макияжниц, за которой просматривался жёсткий, пунктуальный одиночка с таинственными и влиятельными связями. В нужных случаях он умел промолчать, чтобы потом его хорошо услышали, а иногда умудрялся незаметно исчезнуть, чтобы все обратили внимание на его отсутствие.
Помимо деловых качеств он славился безграничной преданностью общему делу, чем и добился приглашения в «Дом свиданий», где получил возможность излагать свои густые предпочтения.
В период пионерного освоения Рублёвки, когда нувориши бешено швыряли шальные деньги на сооружение кичливых «родовых замков», Подлевский со свойственной ему самоиронией считал себя начинающим сбытчиком гашиша с двумя граммами на кармане и даже не задумывался о суете на рублёвской ярмарке тщеславия. Но спустя четверть века слава Рублёвки померкла, и он по старой памяти, щекотавшей эмоции, возмечтал приобрести здесь стрёмный особнячок. Однако в последний момент здраво убоялся, как бы не оказаться в числе ревнителей не по разуму, и отказался от этой идеи. Подмосковные сиятельные пажити он уподобил ритуальному мексиканскому Акапулько, где селят экс-президентов. Резервация для бывших, изнаночный пир.
Но ездил Аркадий в переуплотнённую Рублёвку с удовольствием. Каменные джунгли причудливых четырёхметровых заборов в Жуковках, контрольно-пропускные посты, закрытая от посторонних глаз жизнь тешили самолюбие, отзывались хорошим настроением, потому что Подлевский въезжал теперь сюда желанным гостем. А хорошее настроение продувало свежим ветром мозги, готовя их к чёткой работе, что, по его опыту, обещало искромётные сюрпризы.
Сбор был назначен на четыре часа, и ровно в три шофёр на скромном разъездном «ниссане» уже ожидал Подлевского у домашнего подъезда на Басманной. Аркадий не любил беседовать с чужими водилами и сосредоточился на предстоящем раунде, который, по его прикидкам, будет связан с новой политической ситуацией.
Домчали ровно за час, шофёр пультом раздвинул высокие глухие ворота и остановился около группы людей, топтавшихся на стриженой лужайке, по которой бродили белые и чёрные барашки – разумеется, муляжные, гипсовые. Двухэтажная, в сером мраморе, кое-где с резцовым декором, вилла Ильи Стефановича производила солидное впечатление, хотя не входила в число жуковских изысков. Её отличали кованые узкие балкончики на окнах – милый маленький Парижик. Настоящим украшением усадьбы было одноэтажное рубленое строение в сторонке, которое Илья Стефанович окрестил «Домом свиданий». Это «заведение» с большим камином, огромными немецкими резными шкафами вдоль стен, стилизованными бочками для винных припасов, с длинным узким обеденным столом примерно на тридцать персон и считалось «Домом свиданий». Именно здесь правдюки, как шутливо именовал гостей Илья Стефанович, вели мозговые штурмы. Не исключено, в этой уютной обстановке собирались иные люди и совсем по иным поводам. Однако для Подлевского это святилище не было просто адресным обозначением места встречи, оно несло в себе некий смысловой подтекст, конспирируя фривольным названием суть того, что происходило здесь, когда в доверенном кругу собеседники расчехлялись, реплики и мнения шли нараспашку, а порой «сплеча», круша привычные догмы вдоль, поперёк, вдребезги и пополам.
Стол был накрыт не слишком изысканно, однако добротно для умеренного насыщения, поскольку многие из гостей не успели пообедать. И Илья Стефанович, сидевший в голове, спиной к камину, после нескольких реплик, связанных с разъяснением чьего-то отсутствия по уважительным причинам, без раскачки перешёл к делу:
– Собсно говоря, тема ясна: после санкционной атаки амеров на Россию ситуация меняется. Уже начались бурные вербальные словоизвержения при явном запоре мысли. Особенно много чепухи струит антинаша публика – ну что взять с ветеранов Куликовской битвы! Долбят, словно обкуренные диджеи. Поэтому, предвосхищая обсуждение, хочу сформулировать конечную цель: да, Россия обязана реагировать, как у нас принято, асимметрично ответить на грубый выпад Вашингтона. Властвующее сословие не вправе публично встать перед Штатами в коленно-локтевую позицию. Но! Господа, мы ни на секунду не можем терять из виду главное: при любой ситуации отношения с США надо сохранить на зрелом уровне. Здесь вам не тут! – Играя смычком интонации, повысил голос. – Скажу напролом: важно не допустить сворачивания противостояния в области мягкой силы!
Произнеся эту тираду, Илья Стефанович слегка улыбнулся правым краем рта, что должно было означать всеобщее понимание хода его мыслей, без расшифровки. Потом добавил:
– Мы собрались не для того, чтобы шнурки гладить. Резюмирую: мэйби, любые варианты, любые политические гипермодяры, дерзости вплоть до наглости. Но в итоге никаких новых железных занавесок! Как грица, нинада! – Он перешёл на обиходный интернетный язык. – Вы меня хорошо поняли? – И вдруг со смехом закончил по-старосоветски: – Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали!
Вступительный спич с ходу подхватил Денис Грук, личность писательского сословия, в порядке исключения допущенный в «Дом свиданий». Когда-то он ежеквартально кропал книжонки о благородной социальной роли ЮКОСа, прославляя нетленный вклад Ходорковского в процветание России. Да так и остался в его шлейфе – на подхвате и на содержании бывшего олигарха, более скудном. «Дом свиданий» Грук украшал носом волнующих размеров и массивной головой, которую гнедая львиная бетховенская грива превращала в необъятное вместилище разума, увы, созревшего лишь до стадии, именуемой в обиходе «квашня квашнёй». Зато Грук умел вставить в общий разговор трескучее мелодраматическое словцо и, с легкостью перепархивая с проблемы на проблему, словно пчела, оплодотворял мысли тех, кому было что сказать.
В этот раз он тоже завёлся с пол-оборота:
– Эта сентенция звучала иначе: Щедрины и Гоголи. Товарищ Сталин, которому приписывают изречение, по части литературных дел испражнялся исчерпывающе точно. Помните? «Других писателей у меня нет…»
– Отдали классицизму честь, – небрежно осадил его Илья Стефанович. – А по существу?
– Первый вопрос: надо ли втягиваться в обмен ударами? А если незаметно, тихонько проглотить? – Арсений Царёв из кудринского ЦСИ, мешковатый, в сивобурой блузе, задумчиво почесал модную бородёнку а ля Буланже. – Медведев уже успел ляпнуть об экономической войне, на то он и Медведев, Топтыгин и Торопыгин. А Кремль, похоже, готов работать по Сирии, по КНДР – словно не было новых санкций, словно не подвис «Северный поток – 2».
– Мудрó! – вставил Грук, взбаламутив буйную шевелюру. – Ежели каждый день думать о том, что будет завтра, с ума сойти можно, мозги лопнут.
Его глупую реплику пропустили мимо ушей, а Царёву возразил Хрипоцкий из института Гайдара, за свою манеру общаться получивший прозвище «Хаудуюду». При встрече он непременно начинал с этого англосакского вопроса, пока не нарвался на ответ какого-то русского шутника: «А вам какое дело?»
– Выжидают, только и всего, – авторитетно заявил Хаудуюду. – Европа своё слово ещё не сказала. Но зная кремлёвские манеры, руку на отсечение, пакет ответных мер уже свёрстан. Амеры циники не по сути, а по рождению: бьют по газу, по финансам, а космос особым пунктом из-под санкций вывели: нужны им наши движки. Пока! А нужда пройдёт – ждать недолго, – тоже расплюются. Думаю, нам бы вдарить по сферам, где у них ещё сохраняется интерес. Да, самострел! Но, во-первых, не смертельный, в ногу, зато мы проявим крайнюю степень решимости. В лоб нас не возьмёшь.
Остаётся только мягкая сила. Перестройка-2. А в таком деле, сами знаете, курочка по зёрнышку клюёт, но весь двор в помёте.
– Прэлэстно! Вербальная державность вкупе с экономической ущербностью? – вопросительно уточнил кто-то. – Шаблон. Селёдка под шубой.
– Нихтферштейн! – воскликнул экспансивный банкир Константин Цурукадзе. – Слушай, Хаудуюду, у тебя что, в мозгах чешется? Цирк говоришь!
Тут снова влез неугомонный Денис Грук:
– Бьюсь об заклад, никто не помнит последнюю песню убиенного Игоря Талькова. А слова сегодня звучат ой-ой! «Господин Президент, назревает инцидент. Мы устали от вранья, в небе тучи воронья». Каково?
Герман Михеевич Осадчий, немолодых лет, бывший грефовский чиновный гений экономразвития, в сердце которого уже зияла пустота, а в глазах читалась усталость, – по совместительству страстный пчеловод, уловил философскую линию Грука и добавил:
– Чем ближе улей к упадку, тем больше в нём трутней, это вам любой пасечник скажет. Если кто сомневается в чрезмерном нарастании на всех уровнях бюрократической прослойки, тот не ощущает главную современную тенденцию.
– Ну, хватит, хватит, – укоризненно произнёс Илья Стефанович. – Как рица, дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку.
Господа, переключаем канал. Ближе, ближе к телу.
По мнению Подлевского, «ближе к телу» оказались если не чугунными банальностями, то уж точно неопрятной шумихой слов и фраз, стократно звучавших либо в телевизионных ток-шоу, либо в топ-ньюс Яндекса, либо громыхавших в однообразной канонаде «войны на перьях», которую безалаберно вели СМИ и фэйсбучные лентачи. В разных ракурсах разговор крутился, как на заезженной пластинке. Возмущенцы жали на необходимость ответных санкций, что, по их расчётам, даст повод американцам продолжить экономическое давление, вынудив хозяина Кремля добровольно уйти из-за неразрешимых проблем. А уж как будет оформлена отставка, значения не имеет, тут широкий веер бюрократических вариантов. Другие, наоборот, предлагали затихнуть, утереться и искуплением вплоть до исступления и отупения под угрозой дальнейших санкций позволить амерам и дальше загонять в нашем общественном пространстве про свободу, что в итоге обернётся киевским вариантом, – разумеется, без майдана.
При впечатляющей велеречивости оценок суть их в конечном итоге сводилась к развилке «ответить или промолчать», а потому Подлевскому было скучновато. Он понимал, что в «Доме свиданий» собрались не первые лица, принимающие решения, а их поверенные, профи политических эскорт-услуг, в чью задачу входит изначальная обкатка грядущего политического поворота. Судьбу страны будут обсуждать на негласном закрытом форуме, после консультаций с зарубежными партнёрами и не обязательно на территории России. Идея «семибанкирщины» о поддержке Ельцина в середине 90-х вызрела в Давосе. А эта публика в «Доме свиданий», в том числе он, Подлевский, при всей серьёзности данного собрания всё же выполняет роль неких таиландских «лэдибоев», обслуживающих высшую касту по части её политических запросов.
И внимательно вслушиваясь порой в безбашеные заявы коллег по «Дому свиданий», Аркадий ловил себя на мысли, что их умозрения бьются в прямолинейной схеме противостояния США и России: как быть? – гордо, с потерями для своей экономики ответить или пропустить плевок в лицо? У каждого из вариантов были свои плюсы и огрехи, однако в голове Подлевского бродила совсем иная концепция, всё более овладевавшая им по мере нарастания споров, после которых «в этой речке утром рано утонули два барана».
Но он молчал, выжидая наиболее эффектной позиции для изложения своего нестандартного мнения.
Как нередко бывало, на помощь пришёл Грук, – его для того здесь и держали, чтобы он нелепыми репликами иногда менял регистр дискуссии. Неспособный погружаться в глубину проблем, Грук цепко хватался за всё, что могло подкрепить его титло литератора, и оживлял разговор спонтанными взрывами своей эрудиции – не всегда по делу, но порой кстати.
Хаудуюду, завершая очередной спич, мимоходом упомянул о широком наборе расхожих уроков российской истории, заявив, что пора бы провести ревизию представлений о нашем прошлом.
И закончил это попутное замечание патетически:
– Закройте прошлое! Мне дует!
В реплику моментально вцепился Грук.
– Гениально! – громогласно воскликнул он, тряхнув для убедительности шевелюрой и оснастив речь изысканным непечатным вокабулярием. – Это же «Бесы»! Натуральные «Бесы»! Неужто не помните: «Кто проклял своё прошлое, тот уже наш».