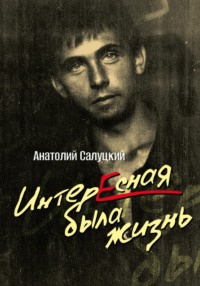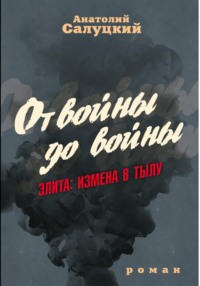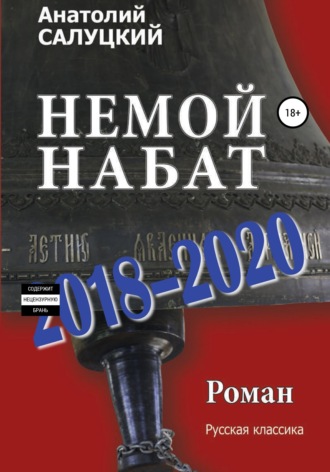 полная версия
полная версияНемой набат. 2018-2020
– Кого надо?
– Я Аркадий Михайлович Подлевский, сын Михаила Алексеевича. Хочу с вами поговорить.
– О чём?
– Об отце.
Снова настала тишина, и Аркадий понял: его впустят, но предварительно подготовятся к внезапному визиту, что-то припрятав или, наоборот, выставив напоказ. Он поступил бы так же, и это была его жизненная тактика: оценивать действия других по собственным намерениям. Обычно такой подход срабатывал, хотя бывали случаи, когда выходило с точностью до наоборот – как молотком по пальцу. Но те случаи научили Подлевского сортировать людей по критерию «свой – чужой», имея в виду какой-то особый вид бездуховного родства.
Наконец громыхнул засов, повернулась уключина, и перед Аркадием предстал тот, кого он предполагал увидеть, даже лицо показалось знакомым. Оба внимательно разглядывали друг друга. Потом хозяин в потёртой синеватой рубашке в клетку, какие раньше называли «Привет из Малаховки», бросив взгляд на модные светло-серые челси гостя с тёмными резиновыми вставками на щиколотках, спросил:
– Как меня нашли?
– Агапыч помер. Пришлось выслеживать. – Каждое слово было смысловым, и Горбонос оценил это, жестом пригласил войти.
Они прошли в левую комнату, где стояли квадратный обеденный стол под цветастой клеёнкой и два стула. Аркадию показалось, что эта удручающе скудная обстановка спешно подготовлена после звонка в дверь. Едва присел, Горбонос в лоб спросил:
– Кто выследил?
– Вы посещали Переделкино, там был человек – ухаживал за больным отцом. Он вас запомнил и случайно увидел у здешнего метро.
Здесь каждое слово тоже было строго рассчитано, неся целые пласты информации. Горбонос несколько секунд вставлял их в свою матрицу, проверяя, подходят ли они. Потом двинулся дальше:
– Зачем пришёл?
– Ставлю отцу надгробие, вот и потянуло. Я о нём мало знаю, а вы рядом были, я вас видел.
– Я тебя тоже мальцом видел. А узнать что хошь?
– Что получится.
Горбонос снова изучающе посмотрел на Аркадия, вернее, осмотрел его. «Видимо, угроза от внезапного прикосновения к прошлому уходит, – подумал Подлевский. – Теперь он прикидывает, можно ли извлечь выгоду из моего визита. Нет, не напрасно я вырядился по первому разряду». И верно, Горбонос вместо кратких настороженных фраз заговорил иначе:
– Про старые дела судачить незачем, быльём поросли. Михал Лексеича добром поминаю. В тяжёлые годы меня в самом низу поймал, в пивнушке-разливайке, от вина оторвал. Ну и зажили, славно погуляли, наваристый был компот. Министрой мы его звали. А после него – на фиг с пляжа, сплошной недотрах, вразброс рысачить начали. Ну и пошло: лебедь раком щуку, пока на поселение не загремел. А там – не пупок царапать, будешь бычить, едальник не закроешь, могут и отшайханить. Вроде не зона, а нащальники ещё хуже, взросляки – макаки, любители нательного рисования, незнамо что кололи. Грева ждать не от кого. Пришлось пограничником прикинуться.
Увидев вскинутые от удивления брови Аркадия, пояснил:
– С пограничным состоянием психики. В до мажоре, нагишом бегал, обнажуха… А вернулся – никому не нужен. Соси ваучер. Сплошь фоска шла – мелочь одной масти, что за карта! Бида. Вот и подался в лабухи, с чего начинал. Жмура на похоронах лабаем, деньги в руки – будут звуки, без лажи. А вчера дубовый жмур вышел, по приказу кого-то из полиции паковали и нам не платили. Сквозняк не пришёл, так его грозят на кладбище не пущать. – Снова заметив удивление гостя, добавил: – Флейтист.
Поняв перемену, Аркадий решил: хватит пилить опилки, пора брать разговор в свои руки:
– У меня бизнес. Про отцовские дела узнать интересно.
Горбонос опять ожесточился, отрицательно замотал головой. Но тут же, видимо, подумал о чём-то своём и ответил спокойнее:
– Дела в небыль ушли. Такие хвостики остались, что не ухватишь. Порожняк.
Но для Подлевского именно «хвостики» представляли особый интерес, он любил и умел раскручивать мелкие фактики, которые другие упускали из виду, а потому с деланым равнодушием спросил:
– Что за хвостики?
Горбонос небрежно махнул рукой:
– А-а, свистёж, лажа. Должок за одним лохом остался, да взять не с кого. Мы его на бабки поставили, на счётчик, а он из окна выкинулся. А с родни какой спрос? В суд расписку не предъявишь, как бы самим не погореть. Наехать, припугнуть? В девяностые мы так и делали. Михал Лексеич всегда этого… Капоне вспоминал: добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом. Но мы не мочили, нет. А сейчас это не катит, опасно, держи уши шире. Да и четверть века прошло. Назад покойников не носят.
– А что за расписочка?
– Да обнакновенная. Взял столько-то, обязуюсь вернуть тогда-то.
– И на что брал?
– Это по дурке разговор. У него спроси, – поднял глаза к потолку, – ежели тама встретитесь. Михал Лексеичу хата его понравилась, обмен предлагал за списание долга, да тот ни в какую. Ну, прижали мы его, а он в окно сиганул, с большого этажа. Вот и грызи бамбук.
– Да-а, – неопределённо протянул Подлевский. – А сейчас к той истории вернуться нельзя? Говорите, родня осталась?
– Ты что?! – испуганно вскинулся Горбонос. – Те дела лучше не ворошить. – Вдруг обмяк, опять изучающе осмотрел гостя, о чём-то подумал, почесал в затылке, сказал: – Я той хреновацией заниматься не буду.
Подлевский понял: Горбонос суемудрствует, это предложение продать расписку, хочет в долю. Ответил:
– Сперва расписочку надо поглядеть.
– Погляд денег стоит.
«Только в одном я ошибся, – подумал Аркадий, – этот позднеспелый огурец не в долю хочет, а получить за расписку сразу. Видать, дело совсем тухлое. Стоит ли связываться? Ну, сперва узнаем, какой прайс».
Пошёл напропалую, спросил в лоб:
– За расписку сколько хотите?
Горбонос от прямоты растерялся, заёрзал на стуле, стеклянноглазо глядя на Аркадия. Видимо, опасался продешевить, но и спугнуть гостя не хотел.
– Чего цену назначать? Я с золотых подносов не жую, но человек не последний. Михал Лексеич меня никогда не обижал. А потом… – Опять почесал в затылке, опять что-то прикинул. – Меня обижать нельзя. Ежели расписка куплена, это тоже факт. В эту сторону думай.
Этот тёртый мужик явно угрожал Подлевскому в случае неудачной торговли известить кого-то о попытке покупки расписки, возможно, родню должника. Лучше всё-таки не ввязываться в эти тараканьи бега. Однако расписку-то посмотреть всё же интересно.
– О чём торговаться, пока бумагу не видел?
– А это счас. – Горбонос торопливо поднялся, ушёл в другую комнату. Аркадий слышал, как он вполголоса неразборчиво говорит с кем-то, как хлопнула негромко дверца шкафа или какой другой мебели. Но вернулся скоро, держа в руках фотографию. Предупредил:
– Даю наколку: Михал Лексеич фотокопии расписки сделал, штук десять. Не ксерокопии, а фото. Ох, умён был! Интеллихент! Говорил: в суд нам не сунуться, а вот пригрозим послать фото расписки его знакомым, – как домкратов меч! – он и дрогнет.
Аркадий взял копию, внутренне насмехаясь над «домкратовым мечом», но в следующий миг, как в старой песне, «дыханья уж нет, в глазах у него помутилось». Сверху было написано: «Я, Богодухов Сергей Викторович…» Дальше читать не стал, только вид делал, а сам лихорадочно вспоминал, как на вопрос об отце Вера замялась, ответила, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа.
А ещё в голову ударило: мой-то отец тоже на эту квартиру глаз положил, ну и дела! Равнодушно сказал Горбоносу:
– Что ж, несите оригинал, будем торговаться. Да! Несколько фотокопий прихватите.
– Ну вот, ты боялась, а только юбочка помялась. Зачет! – удовлетворённо хмыкнул Горбонос, направляясь в другую комнату.
Винтроп наведался в Москву на пару дней – по пути в Алматы, и у него не было времени на Подлевского. Но «сливной бачок» достал его мольбами о встрече, а потому Боб предложил позавтракать в тихом отеле «Арбат», спрятанном в старомосковских переулках, – он любил останавливаться здесь. Когда-то отель был на особом счету, тут селились партийные бонзы и чины зарубежных компартий, инкогнито прибывавшие в Москву. Те времена минули, интерьеры четырёхэтажного отеля устарели, однако удобное место в центре восполняло отсутствие роскоши. Как говорят лошадники, «порядок бьёт класс», а порядок здесь был отменный.
Аркадий предупредил, что речь пойдёт о личных вопросах, что ему нужен мудрый совет Боба. Винтроп неторопливо уплетал специально приготовленную шефом выпускную глазунью с беконом – не омлет из яичного порошка! – а Подлевский, не притрагиваясь к кофе, говорил, говорил.
– Боб, со мной приключилась немыслимая история. После нашего разговора о квартире я достал с антресолей папку старых отцовских бумаг. Живу в спешке, нос утереть некогда, а тут словно кто свыше подсказал. И что я нашёл среди документов? Оказывается, четверть века назад отец намеревался купить квартиру в центре и уже заплатил за неё. Я нашёл расписку владельца той квартиры в получении денег.
Винтроп, без галстука, в мягких синих бабушах, для приличия хмыкнул. Он слушал вполуха, мысли были поглощены завтрашним днём, встречами в Алматы для наведения мостов с «гинго» – на профессиональном жаргоне так называли неправительственные организации, которые финансировало правительство. Новорусская семантика шла от английского «гавермент» и напоминала Бобу знаменитое «гринго» – так в Южной Америке когда-то окрестили американцев. «Гинго» создавали, чтобы через гражданское общество проталкивать идеи, нужные властям. Но в некоторых странах США использовали «гинго» в качестве канала обратной связи, влияя через них на власти, подбрасывая приватную информацию, которую неудобно излагать на официальном уровне. Винтроп одним из первых распознал, что «гинго», в точном переводе нелепица – правительственные неправительственные организации, – можно превратить в агентов перемен. И его послали наладить каналы связи, тимбилдинг – командную игру в Казахстане.
Между тем Подлевский продолжал:
– Представляете, отец уже заплатил за прекрасную квартиру, но произошло непредвиденное: её владелец скоропостижно скончался.
А вскоре заболел отец, и деньги подвисли.
Винтроп сочувственно покачал головой.
– Обнаружив расписку, я поехал к родственникам покойного. Деньги-то уплачены! И тут, Боб, произошло нечто немыслимое. Боб, я по уши влюбился в дочь умершего владельца квартиры.
Винтроп с удивлением поднял брови, такого поворота он не ждал.
– Прэлэстно! Какой карамболь! Это же ситуация вин-вин, выигрывают все! В чём проблема, Аркадий? И вы ещё ждёте совета?
– Я с наслаждением порвал бы расписку и женился на этой женщине. Но, увы, нет взаимности. Я в растерянности: поначалу хотел предъявить расписку, требовать возмещения долга, либо переоформления квартиры. Но влюбился… Вы должны меня понять, Боб! Что делать?
Винтроп с безразличием выслушивал страдания молодого Вертера, ничуть не сомневаясь, что Подлевский, рвущийся в чемпионы жизни, замыслил какую-то аферу. Он понимал, что Аркадию вовсе не совет нужен – расчёт на помощь. Но чем может помочь Боб? Ему недосуг даже размышлять на эту тему. Вдобавок стремление вникнуть в ситуацию Подлевского равносильно попытке щупать пульс на протезе. Вспомнился Киплинг: русские считают, что они самая восточная из западных наций, а они самые западные из восточных. И вдруг сквозь алматинские мысли пробилось любопытное соображение, по сути не связанное с Подлевским: а что, если использовать этого шустрого дельца, этого пантоватого афериста для… да-да, чтобы проверить Суховея, вернее, впутать его в небольшой компроматик? А заодно бросить пятак на водку этому бойкому парню.
Американец участливо похлопал Аркадия по руке, заученно, дежурно, добродушно улыбнулся:
– Аркадий, мне кажется, я понял вашу проблему. Непростой случай, вдобавок американцу трудно разобраться в русских любовно-имущественных интригах, у нас своих предостаточно. Я слышал, у вас есть женщины, для которых кнут слаще пряника. Но я хорошо отношусь к вам. Давайте поступим так. У вас есть лист бумаги? Нет? Тогда пишите на салфетке, буду диктовать.
И продиктовал: «Суховей Валентин Николаевич».
– Работает в администрации Московской области в Красногорске. Опытный человек с большими связями. Разыщите его, свяжитесь с ним, скажите, что господин Винтроп просил оказать вам содействие. Поверьте, этот Суховей может многое, будьте с ним откровенны. Моё имя станет для него паролем. Вы всё поняли?
– Спасибо, Боб, от всей души! Я ваш должник.
– Тогда давайте закругляться. Времени в обрез, улетаю завтра утром. Надеюсь, всё будет о’кей, желаю фарта, так у вас говорят. И обратите внимание, друг мой, несмотря на спешку, я нашёл полчаса для встречи с вами. Мне кажется, они были плодотворными.
Глава 15
В «сапсане» было уютно. Донцов не раз летал на нём в Питер и обратно, используя дорожное время для решения головняков, какими наполнена жизнь бизнесмена. Современный скоростной экспресс, иглой прокалывающий мега расстояния, располагал к деловым размышлениям. Но сегодня не так, хотя поездка – на экономический форум. Ещё с утра, до натоптышей на нервах исполняя виртуозный канцелярский батлл-реп в чиновных кабинетах, Виктор с нетерпением ждал часа, когда, закрыв глаза, утонет в кресле «сапсана» и примется обдумывать жизнь. Желание всё передумать нарастало постепенно, шевельнувшись ещё в Сочи, это он помнил, но тогда оно не было потребностью. Сейчас взбухло до острой необходимости. И в отличие от бытовых и деловых проблем, которые он привык решать на заседаниях, а в одиночестве щёлкал на ходу, урывками, раздумья о жизни требовали сосредоточения, отключения от текущих забот.
Для этого дневной «сапсан» – в самый раз.
Впервые отчаянно влюбиться в сорок лет и жить предощущением желанного семейного счастья – особое состояние души. Песня! Он решил главную проблему своей жизни, зависевшую не только от его воли. В остальном – учёба, работа, бизнес – абсолютно во всём он полагался на самого себя, трезво осознавая, чего способен достичь умом и характером, а куда незачем и ломиться: с холуйством, с подхалимажем у него туго, позвоночник не гнётся. Но взаимная любовь, счастливая семья, полная душевного понимания, – это танец вдвоём. Веру ему мог послать только Господь, и Виктор, не воцерковлённый, не знавший молитв, кроме пасхального тропаря, истово благодарил Его, что не оставил без попечения.
Настроение было приподнятое. Он вспоминал родной Малоярославец – при прокладке газопровода там обнаружили останки французов войны 1812 года. Находка врезалась в память, трассу вели недалеко от их дома, построенного после Победы дедом старым русским способом – соседской толокой, навалом, за один день. А вечером для всех «печёнки» – целого борова под самогон уплетали. Мать с отцом до сих пор хлопочут на грядках, хотя благодаря сыну не знают нужды. Там, в детстве, всё в порядке. В студенчестве тоже не изнемогал, голодную слюну не глотал, ездил подхарчиться домой, изредка, в стипендию, даже гурманил в «Макдоналдсе». Непоротому поколению бездны, как иногда называли встававших на крыло в девяностые, задумываться о большой жизни, о стране было недосуг – всё впереди! Взросление попало в резонанс с другими временами. Новые друзья, первые влюблённости. Группа – все провинциалы, ни одного прыщавого недоумка! – и сейчас сбегается гуртом каждые пять лет, никого не потеряли, только один махнул за кордон. Первые шаги в бизнесе не обидели, жаловаться не на что. Но почему на сердце неясная тревога, почему томит душная затхлость? Когда они явились? Он вспоминал: не сразу, не в одночасье, зато стали всегдашними спутницами, обостряясь по ходу жизни. И наконец пришло понимание, что тревога нарастала вместе с углублённым восприятием политики.
И сумасшедшая радость от встречи с Верой, она тоже косвенно связана с сосущей тревогой: двум любящим, единодушным сердцам легче противиться завтрашним нескладухам русской жизни, которые бередят душу.
Сразу после возвращения из Сочи Виктор узнал у Простова её телефон и позвонил, без всяких стеснений предложив пообедать в каком-нибудь ресторанчике. К его удивлению и радости, Вера, не жеманная, не по одной половице ходит, ответила просто:
– С удовольствием.
Они долго сидели в любезном Донцову «Воронеже», а затем ещё дольше прогулочным шагом меряли из конца в конец Гоголевский бульвар, каждый раз останавливаясь на несколько минут около плывущего в лодке Шолохова. Расставаться не хотелось. В какой-то миг у Виктора мелькнула мысль пригласить Веру к себе домой, тем более, влечение взаимно. Она восхищала его красотой, женственностью, наконец, привлекательными формами, а ещё природной нравственной силой, наполнявшей её суждения. К сорока годам, изучив не только представительский фасад бизнес-среды, но и невидимые миру её корпоративные, порой неопрятные задворки, Донцов не надеялся встретить чаемый идеал женской чистоты. На кого падал взгляд, давно замужем, растили детей. А кто пытался устроить личную жизнь, правдами-неправдами пробиваясь на солидные тусовки, все они, или большинство из них, по какой-то нелепой, дурацкой ошибке полагали, будто мужское внимание помимо «боевой раскраски» и ботокса привлекают разговоры о «половой правде», эротических конфузах или свойствах фаллоимитаторов различного типа, о рецептах постельной неутомимости, нудистских пляжах и прочих завозных вербальных стимуляторах. Донцов вспомнил «Сладкую жизнь» и обрадовался: уж он-то не повторит ошибку Мастрояни, не пройдёт мимо этой редкой чистоты, олицетворяющей первооснову русской жизни.
Попытка похлопотать вокруг «женского вопроса», мужской нахрап претили ему. Им не восемнадцать, сошлись два взрослых человека, каждый из которых много лет мечтал о такой встрече. Интимная близость в эти счастливые минуты ушла на второй план, они распахнули души навстречу друг другу, неодолимая тяга вылилась в страстное желание, отринув внутренних цензоров, высказаться до дна. Нет, глубже – доверчиво раскрыть духовное подполье, где каждый хранит самое сокровенное. Наконец-то, впервые в жизни! Эти восторги были посильнее чарой ночи любви.
В равной степени их потрясала, вдохновляла поразительная схожесть глубинных дум, общие духовные беспокойства роднили не меньше, чем гендерные чувства, возникшие сразу, ещё на домашнем юбилее и окрепшие сегодня. Впрочем, бери выше!
Взаимное доверие оказалось полным, достижимым разве что в мечтаниях. Вот же она, эта слитность пониманий и суждений. Становилось ясно: в необъятном мире встретились две сродные половинки, готовые к сильной, жаркой любви.
В завтрашнем дне не было сомнений. И эта уверенность в обретении друг друга заглушала эротический энтузиазм; они торопились выговориться сполна, предъявить священные права своей личности. Со стороны это могло показаться странным, но на самом деле через их бесконечный диалог проявлялся родовой признак цельных натур. Ибо не лёгкий трёп о мелочах жизни и её памятных эпизодах, о далёком детстве составлял основу взаимного притяжения. Они с радостью, без рисовки и боязни говорили о своих убеждениях и моральных ценностях. Вербальную форму принимали такие глубокие переживания, какими люди их возраста предпочитают не делиться с посторонними. Но в эти минуты, нет, уже часы счастливого взаимопроникновения душ наружу вырывалось самое сокровенное, то, в чём явственно звучало понимание порядочности, отношение к истории, к судьбам России.
Видимо, для настройки разговора на свой лад Вера сразу взяла верхнее до, озаботясь нынешним несоответствием, даже противостоянием свободы воззрений и свободы самой жизни. Донцов, с закрытыми глазами сидя в кресле «сапсана», невольно улыбнулся, вспомнил один из её монологов.
– Есть советский анекдот, пыльная старина от мамы. Американец говорит русскому: я могу перед Белым домом крикнуть, что Буш дурак, и мне ничего не будет. А ты? Русский отвечает: да раз плюнуть! Крикну на Красной площади, что Буш дурак, и мне тоже ничего не будет.
Виктор улыбнулся:
– Это времена, когда о мастерстве футболистов судили по длине их трусов. С бородой анекдотец.
Но оказалось, то лишь присказка.
– А что у нас теперь? – продолжила Вера. – На Болотную с такими лозунгами вылезли, что жуть брала. Демократия! А попробуй-ка пожури своего начальника на заводе, в нашем институте, где угодно. Премии лишат, это само собой, так ведь выгонят, выжмут, и нигде правды не найдёшь. Если обобщить, – что получили? Кричать можно любую мантру, от Гегеля до Гоголя, цензурщиков нет, швондеровичи напропалую стряпают. Управляемая фронда! Даже идеолог у неё в Кремле выискался. Как судачила княгиня Бетси из «Анны Карениной», о нём незачем упоминать и так все знают. А жизнь-то в ежовых рукавицах людей держит, не вякни. На низах народ пуще прежнего боится лишнее слово сказать. Чуть что – уволят. А жаловаться – только президенту. С кнутами, с людодёрством теперь полный порядок.
Вера увлеклась, разговор шёл под напором чувств, разбросанный, и она задела смежную тему:
– Я вам, Виктор, больше скажу. – Они всё ещё были на «вы». – Про Эстонию, например. Там сперва переписали историю – свобода! ликуй! – а затем принялись переписывать собственность: реституцию затеяли, возвращение имущества прежним владельцам. Вот как на деле стыкуются сейчас свобода слова и свобода жизни. Это Эстония. А наше-то вороньё и вовсе со своим карком. Потом скажу. – Глянула на него. – Не боюсь, времени мало. Почему-то я вам могу сказать всё, о чём с другими рот не открою, со мной такое впервые. А вот ещё пример, который душу бередит: про тридцать миллионов Фирсов.
– Каких Фирсов?
– Да как же! Чеховских! После развала Союза тридцать миллионов русских людей, словно лишние, ненужные Фирсы, брошены за границей на произвол судьбы.
Позади осталось Бологое, а Донцов продолжал с радостным чувством думать о Вере. Малоярославецкая музыкальная школа, которую он самовольно бросил, одарила его забавной привычкой: к людям он стал «приклеивать» слова известных песен. Отец, служивший срочную в погранвойсках, отзывался в сознании строчкой «На границе тучи ходят хмуро». Мама, по-крестьянски встававшая ни свет ни заря, почему-то «аукалась» словами «На заре ты меня не буди». Школьный физрук, крикун, умевший гаркнуть, ассоциировался с классическим «Эй, ухнем!». Замдекана, по совместительству лидера институтских туристов, Виктор наградил словами «По долинам и по взгорьям». Эти песенные «лейблы», исключительно для внутреннего потребления, возникали сами собой, без малейших усилий. Зная за собой эту странность, он иногда пытался песенным словом пометить тех, кто был ему неприятен. Но тут дело шло натужно, приходилось мудрствовать – чаще всего попусту, а если и являлось что путное, всё равно не приживалось в памяти.
То ли дело люди симпатичные! Вот к Простову сразу, без усилий, само собой приклеилось «Наш адрес – Советский Союз».
Так же с Верой. Но в отличие от прежних случаев, когда речь шла о формальной привязке, знаменитая песня, слившаяся в его сознании с этой удивительной женщиной, несла глубокий смысл, некий подтекст. Ещё в «Воронеже» в первые минуты знакомства в голове Виктора выстрелила строчка «Широка страна моя родная». А после долгого променажа по Гоголевскому эта песня и вовсе стала как бы символом Веры, обретя дюжину смыслов. Вот и сейчас, в «сапсане», думая о ней, он в своём сепаратном, глубоко личном восприятии как бы уподоблял её родной стране.
Но была ещё одна причина, которая невольно способствовала глубокому осмыслению происходящего. К радости примешивалась тревога. «Можно ли сбрасывать со счетов Подлевского?» – вторым планом эта тема звучала неотступно. Этот спесивый, желчный деятель, нос крючком, брови шатром, которым явно руководит какой-то расчёт – с первого взгляда видно! – не отступится, за Веру предстоит борьба, причём настроения самой Веры в этой схватке учитывать не будут, вот что ужасно. Подлевскому плевать, он ищет своей выгоды, потому и активничает, о чём предупредила Ряжская.
В «Воронеже» разговор тоже коснулся Подлевского, причём со стороны Веры. Речь, собственно, не о нём – о первом знакомстве с Западом, о Женеве, которая очаровала фасадным шиком и случайной встречей с приветливым, раскованным соотечественником, раскрывшим перед ней обаяние Запада. Но с тех пор её воззрения сильно переменились, Подлевский, не осознавая того, открыл перед ней новые пласты духовной жизни, и она оказалась в бурном потоке политических страстей. Нет-нет, в смысле понимания всех этих хитросплетений она полный профан, приготовишка.
Впрочем, она сказала иначе, интереснее, веселее:
– В политическом Интернете я неофит. Но свои межевые столбы, клеймённые, сразу расставила. Категорически восстала против концепции «народа в народе» – прозападного креативного слоя и быдла, для которого на ТВ надо готовить особое дурманящее пойло и пятиминутки ненависти – как у Оурэлла. И сразу бросилась в споры. А в Сети шумно. Одна френдеса предупредила: «Это Интернет, детка! Здесь могут и послать». И что вы думаете? Посылали куда подальше. Кто-то даже назвал «девственницей в борделе». Глумилище! А ещё эти боты… Но я их Солоневичем припечатала: у нас теперь ставка на сволочь.