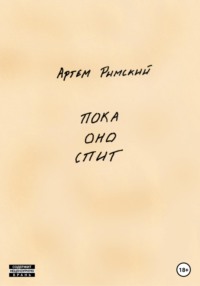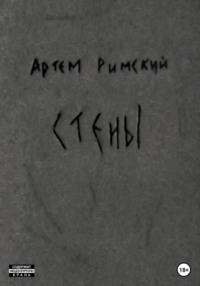Полная версия
Без суда
– Ах ты, подлец, – улыбнулась Наоми. – Все ты прекрасно знаешь. Значит, пианисту, игравшему для королевской семьи не чужд панк-рок?
– На этом мои познания в области панк-рока ограничиваются.
– Это хорошо. А то, не дай бог, сыграл бы еще в Альберт-холле «God Save The Queen».
– А что плохого в гимне Великобритании?
– В гимне, наверное, ничего, но такое же название носит песня группы Sex Pistols, наделавшая в свое время много шума.
Наоми негромко включила музыку и придвинулась ближе к Солу.
– Обними меня, – попросила она.
– За нашу сокровенную мечту – сказал Сол, правой рукой обнял девушку, а левой приподнял бутылку. – За то, чтобы уехать отсюда в другой мир.
Наоми кивнула, стукнула свою бутылку об его и сделала большой глоток.
– Напиться не получится, – сказала она.
– А ты хотела бы?
Наоми пожала плечами.
– Вообще при психотерапии алкоголь запрещен, так что, возможно, мы вредим себе.
– Алкоголь не исключен из местного меню, так что все в порядке.
– Расскажи мне еще о себе, – попросила девушка. – О своих музыкальных подвигах, о гастрольной жизни.
– Это не так весело, как может показаться. На самом деле рутины там не меньше, чем в других профессиях.
– А вечеринки со всеми тяжкими у классических музыкантов бывают?
– Случаются и они.
– Ты был женат?
– Нет, – ответил Сол, отметив, что ждал подобного вопроса. – Один раз был близок к этому, но сейчас рад, что ничего подобного не произошло. Уверен, что семья не спасла бы меня от моего настоящего положения, а, скорее всего, лишь усугубила бы его. О, а эту песню я тоже где-то слышал.
– В фильме, наверное. «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Песня так же называется.
– То есть «Кладбище домашних животных» – это и книга, и фильм, и песня?
– Выходит, так. У тебя не было мыслей заняться композиторской карьерой в фильмах?
– Нет. В первую очередь, я все-таки исполнитель. Кое-что я, конечно, сочинял, но особо этим не увлекался. Может, позже, кто знает?
– А в каких еще городах бывал?
– Во многих. Милан, Рим, Барселона, Мадрид… да во всех крупных европейских городах побывал.
– А в Праге?
– Разумеется.
– Расскажи об этих городах что-нибудь. Что помнишь, то и расскажи.
Минут двадцать Сол вслух вспоминал разрозненные факты из своей биографии, пока не заметил, что Наоми перестала реагировать на его рассказы. Посмотрев в лицо девушки, он увидел, что она задремала, и аккуратно забрал из ее руки бутылку вина. Затем уложил ее на диван и, взяв с кровати подушку, положил ей ее под голову.
– I just want to walk right out of this world, – в полусне пропела Наоми вместе с вокалистом Ramones, и вновь замолчала.
Сол грустно улыбнулся этим словам, и присев перед девушкой, поцеловал ее в лоб. Она не отреагировала, и еще минут пять, он просто смотрел в ее лицо, которое даже в сонном состоянии он не мог назвать умиротворенным. Он смотрел на нее и думал, что будет через семь дней, когда ей придется уехать. Сегодня, рядом с ней он впервые за долгие годы ощутил то самое удовольствие от музыки, которое в свое время подарило ему столько прекрасных моментов в жизни. Сегодня, он, наконец, понял, что именно его так притягивало в Наоми – она была самым настоящим музыкальным инструментом. Сегодня, разобравшись с этим вопросом, он впервые по-настоящему хотел ее. Он не чувствовал себя влюбленным, он чувствовал себя связанным. И чувствуя, что легко может развязать узлы и убежать, он наслаждался и своим пленом, и своей способностью покинуть этот плен.
Взглянув в окно, Сол увидел, что по направлению к флигелю идет домработница с передвижным столиком, чтобы забрать грязную посуду. Он оторвался от созерцания девушки и сам вышел навстречу, чтобы дверной колокольчик не наделал лишнего шума. Передав остатки ужина, кроме вина, и вновь оставшись наедине с Наоми, Сол поставил на паузу плеер в ноутбуке, и, удостоверившись, что внезапная тишина ее не разбудила, вышел на улицу с бутылкой в руке. Подойдя к своему флигелю, Сол уселся в кресло-качалку и закурил. Затем встал и направился к тому самому причалу, где позавчера познакомился с Наоми. Тут он просидел около часа, любуясь багровым закатом над полосой леса на дальнем берегу и окрашивающим воды озера в розоватые оттенки. Тишина и спокойствие нагоняли на Сола сентиментальные воспоминания, подкреплявшиеся медленным и легким опьянением, и только назойливые комары нарушали эту идиллию. Но чем дальше, тем сильнее Сол замечал, что в голову его медленно вползают те воспоминания, от которых он уже очень устал, и которые сейчас казались ему совершенно не к месту. Он чувствовал, как вновь начинает раздражаться, как захмелевшая голова готова устраивать привычные козни, как вновь хочется смотреть на свои пальцы, думая о том, о чем думать не следует. Память уносила назад и назад, в те, казавшиеся уже совершенно неправдивыми годы, когда он был счастлив всем тем, чем сейчас он был несчастен. Поняв, что ему не справиться, Сол покинул причал и решил отправиться спать. Подойдя к своему флигелю, он увидел, как у Наоми зажегся свет, и поспешил войти внутрь, чтобы не попасться девушке на глаза. Не включая свет, он скинул с себя одежду и рухнул в постель, но уснуть смог лишь через долгих полчаса.
Проспал же он совсем немногим дольше, и был разбужен настойчивым стуком в дверь, сопровождавшимся истеричным дерганьем дверного колокольчика. Не сразу сообразив, что происходит, Сол сел на кровати и встряхнул головой, чтобы убедиться, что звуки эти ему не приснились. Но истерика за дверью продолжалась, и, подойдя к двери, Сол услышал за ней голос Терренса.
– Ну, сантехник, – сквозь зубы говорил толстяк, впрочем, не повышая тона. – Предатель паршивый, дрыхнет сейчас. Почтальон, булочник, сапожник, открой эту чертову дверь.
Тон, которым Терренс перечислял профессии, был пропитан яростью, и наводил на мысли, что почтальоны, булочники и сапожники являются отнюдь не полезными членами общества, а отъявленными злодеями, чьи пороки заслуживали строжайшего порицания.
– Ты чего, Терри? – спросил Сол, открыв дверь и увидев возбужденное лицо своего товарища по несчастью.
– Ты почему бросил меня одного с этими… с этими водителями?
– Ты о чем?
– Я о том, что ты не пришел на ужин, и оставил меня терпеть издевательства этого Филиппа, – повышенным тоном ответил Терренс и вытер носовым платком испарину со своей лысины.
– Но я и не собирался больше ужинать в их обществе, – усмехнулся Сол, удивляясь манере Терренса так живо вкладывать негативный оттенок в название той или иной профессии. Тем не менее, он посторонился, приглашая гостя войти, потому что почувствовал интерес к тому, что позволил себе Филипп за ужином.
– Почему ты такой сторож? – разочарованно спросил Терренс, тяжело усаживаясь в кресло, с несоответствующими усилиям стонами и пыхтением. – Был бы ты там, ты бы сумел его осадить.
– Друг, ну тебе стоит самому постоять за себя. Этот Филипп далеко не самый страшный соперник.
– У меня язык не так подвязан как у тебя.
– Тут дело не в языке, а в том, что ты теряешься, стоит на тебя немного надавить. А если бы ты сохранял спокойствие, то сам без труда заметил бы все слабые места этого… водителя.
Терренс покачал головой и усмехнулся.
– Он спросил, где же сегодня наш друг со своими историями о своих сексуальных подвигах, намекая на тебя. То, что ты ужинал с Наоми ни для кого не было секретом, но он все равно поднял этот вопрос и, смеясь, добавил, что, скорее всего, прямо сейчас происходит очередная такая история.
Сол от души рассмеялся, чем заставил и Терренса улыбнуться.
– Погоди, – сказал Сол. – Попробуй вспомнить, каким в этот момент было лицо Эшли. Она вновь молчала весь вечер?
– Молчать-то она молчала, но выражения ее лица говорили без слов. И я прекрасно помню, как она смертельно побледнела, когда муженек на тебя и Наоми.
– Побледнела?
– Да, и взгляд опустила. Это было так заметно, потому что обычно лицо ее выражало удвоенную порцию презрения с лица ее муженька, и было понятно без слов, что она получает немалое удовольствие от подколов в мою сторону.
– Чем он тебя оскорбил?
– Да на протяжении всего ужина он как бы невзначай посмеивался и над моим весом, и над моей лысиной, но делал это так, что и прицепиться было не к чему. Но самым ужасным было, когда он… предложил мне заменить тебя и тоже поделиться парочкой историй о моем сексуальном опыте. Причем помолчал и добавил, что речь идет о сексе с другим человеком, – Терренс проскрипел зубами, и Солу показалось, что он сдерживает слезы обиды.
Ему стало так жаль этого беззащитного и совсем невзрослого мужчину, что он перестал улыбаться и лишь покачал головой. Личность Филиппа же вызвала в нем еще большее отвращение, и даже желание унизить этого закомплексованного выскочку с ярко выраженными маниакальными наклонностями. И самое интересное – Сол прекрасно знал, как он может это сделать. И сделать крайне жестоко.
– И все это под немой хохот этой его… швеи, – продолжал Терренс. – А потом он так прямо и спросил: «Или ты не любитель этого дела, Терренс? Я имею в виду трахаться».
– Так прямо и сказал? – поморщился Сол.
– Так прямо и сказал, но при этом еще и употребил англоязычное fuck, разумеется, намекая на мою фамилию. Сначала я хотел просто броситься на него и разорвать его физиономию, но вовремя взял себя в руки, сочтя такое поведение заведомым проигрышем. Кроме того, если бы я поступил именно так, это означало бы, что все мое лечение у Майера ничего не дало, понимаешь? Означало бы, что я так и не научился контролировать свой гнев.
Солу было все более жаль Терренса. Неужели его пребывание у Майера действительно ничего не дало ему? Неужели он так и не понял, что его проблема не в некоем гневе, в его исполнении слабо напоминавшем истинное значение этого слова, а в постоянном пребывании в своей скорлупе, которая крошилась от малейшего напора извне.
– И как ты в итоге отреагировал? – спросил Сол, представляя, как растерянный Терренс краснеет и не может произнести ни слова, а потом глупо улыбается и ковыряет в своей тарелке.
Терренс замялся с ответом, и Сол понял, что его догадка верна.
– Ты был обязан спровоцировать конфликт, Терренс. Просто обязан.
– Вот был бы ты там…
– Да дело не во мне! При чем здесь я?!
– И что я должен был сделать?!
– Схватить бокал вина и выплеснуть ему в лицо, хотя бы. После этого встать и выйти из-за стола, а если бы он бросился на тебя, то драться до последнего.
– Вы все говорите о насилии, но разве это выход? – удрученно покачал головой Терренс, и Сол понял, что доктор Майер по своему тоже склонял Терренса к решительным действиям, хоть Сол мог только догадываться о том, что именно говорит Майер каждому своему отдельному пациенту.
– В твоем случае – это выход, – подтвердил Сол. – Пусть лучше Эшли расскажет, как я ее рот трахал, пока она соплями не начала захлебываться – вот, чтобы я ему ответил на твоем месте.
Терренс залился хохотом и сразу приободрился, возможно, от одного только представления того, как отвечает Филиппу таким образом.
– Ты отличный парень, Сол, – произнес он. – Спасибо за поддержку.
– Побледнела, говоришь, его шлюшка?
– Ага. Что-то в ней есть такое. Миниатюрная, фигуристая и налитая, еще эта стрижка девочки-отличницы, – по голосу Терренса Сол понял, что Эшли успела побывать не только в его фантазиях.
– Да, она… – Сол причмокнул языком не найдя подходящего слова.
– Учительница, – процедил Терренс.
– Лучше и не скажешь, – улыбнулся Сол.
– А как там с Наоми?
– Да никак. Это исключительно дружеский ужин, не забивай себе голову.
– Слушай, Сол, давай напьемся.
– Да поздно уже. Мне неохота тревожить кого-то, тем более Луизу, чтобы выпросить алкоголя.
– Не надо никого тревожить. Через полчаса все уснут, а я знаю, как попасть в винный погребок, я уже воровал оттуда вино и коньяк.
– Что еще за винный погребок? – удивился Сол.
– Подвал рядом с продуктовым складом в правом крыле. Вон, гляди, – Терренс указал через окно во флигеле на окна помещений, где хранились запасы продуктов. – В маленькой гостиной две двери: одна ведет через коридор в пристройки правого крыла, а за второй еще один маленький коридор с еще двумя дверями. Ты был там?
– В ту дверь не входил.
– Кроме дверей в кладовку, на окна которой ты сейчас смотришь, в конце того коридорчика есть и дверь, ключ от которой лежит сверху, в прорези между стеной и наличником. Открываешь, и попадаешь в пьяный рай. Что скажешь?
– Предложение, конечно, заманчивое, но не сегодня, Терренс, – ответил Сол, несмотря на воодушевление своего ночного гостя. – Уже поздно, я хочу выспаться, и не хочу утром дышать на Майера перегаром. Ты у него после обеда, а я с утра, так что, извини. Может быть, в другой раз.
– Ну, давай в следующий раз, – согласился Терренс и встал с кресла. – Не буду тогда мешать тебе, тоже пойду спать.
– Транзитом через погребок?
– Нет, не сегодня, – махнул рукой Терренс и подошел к двери. – Спасибо, что выслушал меня, а не послал к черту. И извини, что разбудил.
– Пустяки, – ответил Сол и похлопал толстяка по плечу.
– Передавай привет Наоми, а то я совсем ее не вижу в последнее время.
– Обязательно.
Сол закурил и стоял у открытой двери, наблюдая, как Терренс поднялся на заднее крыльцо и скрылся в доме. Ему было искренне жаль этого человека еще и по причине того, что ему самому вовсе не хотелось с ним общаться, и уж, тем более, не хотелось пить с ним среди ночи и выслушивать его мысли и переживания. Сол понимал, что в этом нет его вины, но все-таки чувствовал некоторый стыд от того, что вот и он стал причастным к одиночеству и неуверенности этого парня. Дождавшись, когда в окнах спальни Терренса зажегся свет, и, взглянув на темные окна домика Наоми, Сол потушил сигарету, закрыл дверь и включил настольный светильник. Теплая летняя ночь вновь звала его на улицу, но комары, налетающие с озера, убеждали в том, что провести ночь в кресле-качалке идея не из лучших. Сон был сбит, и уже через пять минут он проклинал Терренса за такую подлость, поскольку то, с чем Сол ложился спать, вновь начинало овладевать его мозгом. Вновь воспоминания о такой же теплой ночи в мае две тысячи третьего года, ночи после его триумфа, ночи которую он проводил в роскошном номере лондонского отеля с самой прекрасной девушкой в его жизни.
Это было всего лишь шесть лет назад, но каким же далеким и буквально преданным забвению казалось сейчас. Запах свежей шелковой постели, запах многочисленных букетов, которыми был убран номер, запах дорогого шампанского и фруктов, запах тела его любимой. Аромат славы и почестей, аромат свежего воздуха врывавшегося сквозь открытые настежь двери в мир великих целей и свершений, для которых, казалось, не существовало никаких препятствий.
* * *– Скажи это еще раз, – говорил Сол, впиваясь зубами в апельсин и разбрызгивая сок по постели и обнаженным телам – его и Кейт.
– Ты был не просто великолепен, ты был гениален, – она слизала каплю сока с его груди.
– Скажи честно, ты закрывала глаза, пока я играл?
– Постоянно. Я их открывала только для того, чтобы удостовериться, что за роялем сидит мой парень.
– А другие? Ты обращала внимание?
– Преимущественно, да. Многие слушали с закрытыми глазами.
– Мне просто кажется, что я еще не до конца осознал все произошедшее, – усмехнулся Сол, отпил из бутылки шампанского и поднес бутылку к губам Кейт. – Я обожаю твои волосы, – сказал он и накрыл свое лицо золотистыми локонами девушки. – Я хочу твои волосы. Может самый перспективный пианист мира позволить себе такое извращение?
– Не сегодня.
– Почему это?
– Не хочу прическу портить. Мне ее четыре часа делали.
– Как сыграл Эйн? – вдруг спохватился Сол. – Я слышал, но был настолько возбужден, что просто не мог судить объективно.
– Эйн сыграл хорошо, на четверку. Его четвертое место вполне заслуженно.
– Черт возьми, как жаль, что он не дотянул до третьего места.
– Даже странно, что он не выглядит очень уж расстроенным.
– Если бы он стал первым, а я четвертым, я бы тоже в его обществе не предавался унынию. Ты ведь знаешь, как нам обоим важна обоюдная поддержка и постоянное соперничество, которое мы ведем уже шесть лет.
– Знаю. Вы оба молодцы.
– Да. Просто сегодня мне немного больше повезло.
Кейт отрицательно покачала головой, взяла дольку апельсина и выжала ее на грудь Сола. Вновь слизала сок, и горячо поцеловала Сола в губы.
– Не совсем так. Просто ты лучший. И дело вовсе не в удаче. Эйн хорош, и француз хорош, и австриец хорош, но лучшим может быть только один. И это ты.
– Ты действительно так думаешь? – спросил Сол, заглядывая в ее светло-карие глаза и двумя руками гладя ее волосы.
– Да, – прошептала Кейт в самые его губы. – Ты лучший.
– И липкий.
– И я липкая.
– И самая красивая во всем мире. Мне кажется, что я готов часами вот так просто смотреть в твое лицо. Я люблю тебя.
– И я люблю тебя.
Кейт вновь поцеловала его, а Сол схватил девушку за талию, перевернул на спину, выплеснул ей на грудь шампанское, и тут же принялся его слизывать. Кейт сначала завизжала от неожиданности и холода, но уже через несколько секунд издала сладостный стон и вцепилась руками в подушки.
– Господи, как круто, – прошептала она.
Сол вылил шампанское ей на живот, и едва сам не кончил от очередного резкого вскрика и кратковременного сокращения мышц ее живота. Так он постепенно дошел до самых кончиков пальцев ее ног, полностью опустошив бутылку, а затем схватил букет красных роз, и, обрывая лепестки, принялся окидывать ими мокрую постель и изнеможенное от ласк тело своей любимой девушки.
– Как мы будем спать? – простонала Кейт.
– Мы не будем спать, – ответил Сол, целуя ее в обе груди. – Только не сегодня.
– Скажи это еще раз.
– Мы не будем спать.
– Не это. Другое.
– Я люблю тебя. Больше всего на свете. И мой сегодняшний успех – это, в первую очередь, твой успех. Я люблю тебя, и это будет длиться вечно. И конец не наступит никогда.
– Я люблю тебя, и это будет длиться вечно. И конец не наступит никогда.
Сол открыл очередную бутылку.
– Клянусь, – сказал он, сделал три больших глотка и передал бутылку Кейт.
– Клянусь, – сказала девушка, приподнялась на подушках и тоже выпила.
Клятва была скреплена, по меньшей мере, сотым поцелуем за этот вечер. Кейт забрала из руки Сола бутылку, настойчивым движением руки заставила его лечь на спину, и залезла на него сверху.
– Чья очередь купаться? – засмеялась она, разбрасывая по плечам и груди свои золотистые кудри.
– Моя. Господи, прости мою душу грешную.
Они действительно не спали почти всю ночь, не уставая любить друг друга и нежно, и страстно, находя силы и вдохновение в нежности и страсти, чувствуя, как в этой нежности и страсти их любовь разгорается ярким костром. Они уснули лишь под утро, на полу у тлеющего камина, закутавшись в сорванную с гардины штору, поскольку постель была насквозь мокрой от шампанского.
* * *Сейчас Сол изо всех сил старался вспомнить, что именно он чувствовал, когда клялся Кейт в вечной любви, и до боли в висках напрягал память, чтобы вспомнить, что видел в ее глазах, и что чувствовал в ее словах, когда клялась она. Всеми силами он старался увидеть и услышать ложь в своих воспоминаниях, но даже там не было успокоения. Даже спустя столько лет он видел и слышал ту ночь в своей памяти так, словно она была вчера, и не находил ничего кроме искренности. Почему? Почему, если все это оказалось ложью, он до сих пор верит в эти клятвы, хотя уже давно должен сбросить их груз, списав ситуацию на вдохновенный восторг от триумфа, на опьянение и молодые незрелые чувства? Почему он не мог этого сделать? Почему, если оказался преданным, он продолжал тащить на своих плечах веру в то, что в тот вечер Кейт не лгала. Вновь и вновь вспоминая счастливейшие дни своей жизни, он повторял про себя: «Клянусь». И заставляя себя прогнать воспоминания, все равно слышал ее ответ.
Он достал из кармана пачку сигарет и закурил прямо во флигеле. Вспомнив о винном погребке, Сол подумал, что стоило бы наведаться туда и прихватить бутылку коньяка, чтобы, по крайней мере, уснуть. Какой же контраст с его утренним настроением и вечерним. Он хотел было вновь начать грешить на Майера и его бесполезную методику, но в то же время поймал себя на мысли, что только доведя себя до отчаяния можно вскрыть этот нарыв. Примерно так, как сегодня этот нарыв вскрылся у Наоми.
Наоми.
Сол вдруг сорвался с места и бросился к ноутбуку. Нетерпеливо дымя сигаретой, он дождался, когда компьютер загрузился и уже через полминуты слушал Чакону Баха в ее реальном исполнении. Слушал сидя на полу, с закрытыми глазами, и уже растворялся в океане теплоты и умиротворения. Слушал и вспоминал сегодняшний вечер, когда он играл эту музыку, и слышал ее столь же ясно как и сейчас. Он даже несколько раз ловил ноты и целые фразы, которые он, будь он технически готов к исполнению этой композиции, заставил бы скрипку пропеть по-иному. Как сегодня он заставлял петь тело Наоми. Что это было? Задавая себе этот вопрос, Сол и не ждал ответа, потому что ответ, в принципе, был и не особо важен. Важным было то, что это было. Что сегодня он играл, испытывая неимоверное вдохновение и наслаждение. Играл так, как в те самые времена, которые еще совсем недавно резали ему память.
Сол почувствовал как по щеке его потекла слеза. Да, он помнил те чувства в своей детской душе, которые рождало его собственное пианино, купленное родителями уже после того, как Сол обнаружил некоторые способности в музыкальной школе. Но если в музыкальной школе все было формально и, по сути, просто ради галочки, то дома все уже стало совершенно по-другому. Глядя на свое пианино, он понимал, что хочет обладать им. Понимал, что хочет понять эту штуковину от и до, хочет навек поселить в ней часть себя и заставить эту штуковину, в конце концов, открыться ему, безапелляционно довериться ему. Сол прекрасно помнил эту загадку, исходившую от пианино, заставлявшую его – шестилетнего мальчишку, еще ничего не знавшего о высоких чувствах, – испытывать внутренний трепет, который – и он это прекрасно понимал, – он мог обуздать только выплеснув его из себя наружу, выплеснув сквозь пальцы на черные и белые клавиши, манившие его в совершенно иной мир.
И вот оно! Вот оно повторение этих чувств. И Сол не понимал, чувствует ли он удовлетворение от того, что судьба преподносит ему очередной шанс испытать страсть к новому и неизвестному, или горечь от того, что он уже был осведомлен о том, как порой заканчивается путь в двадцать три года. Нет, он не был влюблен. Он всего лишь увидел в Наоми то, что ранее никогда не видел в других людях. Он, наконец, встретил человека, который был ему интересен абсолютно во всем, и который привлекал его абсолютно всем, и, разумеется, Сол понимал, что все это может закончиться настоящей любовью, минуя пресловутую влюбленность, но насквозь проходя через чувства глубокой дружбы и взаимного доверия. Он понимал это, хоть любовь сейчас волновала его меньше всего. Сейчас его волновало именно чувство причастности к чему-то такому, что доступно ему и не доступно миллионам других людей. То чувство, которое он постоянно чувствовал в подростковые годы, на пути к виртуозному владению инструментом. Чувство невероятной уверенности в себе, чувство силы, способной раздвигать границы привычной жизни, силы кроющейся в нем самом, в его руках. Ведь тогда он знал. Он действительно знал, что он потрясающ, что он обречен на успех, хоть до успеха было еще далеко, что он богат тем богатством, которое порой минует долларовых миллиардеров. Богат самым важным богатством. Богат собственным миром.
И он знал, что в свое время обрел это богатство благодаря доверию. Он бы никогда не смог заставить инструмент довериться ему, ели бы в свое время не доверил ему все свои тайны, все терзания, все чувства. Всю свою жизнь. Ни один человек, даже самый близкий друг Эйн, даже родители, и даже – о, Господи, – даже Кейт, не знали о нем того, что он рассказывал о себе посредством музыки. Да и не могли они знать. Не могли, потому что в человеческой душе есть то, что никогда не может быть выражено словами. Как физические теории о нашей вселенной, которые неспособен абстрактно объять человеческий разум, но способен объяснить язык математики, так и терзания души не могут порой быть высказаны иначе, как музыкой. И что же он сегодня делал рядом с Наоми? Да то же самое, что в свое время делал сидя за пианино, а позднее и за роялем. Он открывался открывая ее.
– О, Господи, – прошептал Сол, когда Чакона подошла к концу.
Нет, не о любви он думал, когда среди ночи вышел из своего флигеля и направился к флигелю девушки. Не о любви, но о доверии. И о том, каким сильным и счастливым может сделать человека доверие. Не о любви он думал, когда звонил в ее дверной колокольчик, и, чувствуя нервный импульс в зажегшемся свете, но о той боли, которая надрывала ему сердце.