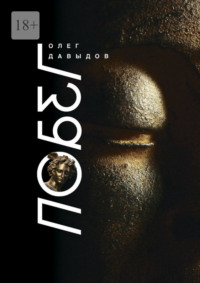Полная версия
Кукушкины детки
Лишь когда папа спит в своих гландах, Илья и умен, и весел, и здоров, и устойчив… Но это так редко бывает – у папы недреманное око. Он смотрит из каждой фолликулы гланд, из каждого шрама за своим сокровищем. Он там крепко обосновался, и, стоит Илье что-то сделать такое… пока папа спит, – пиши пропало. Вместо папиных глаз из гланд глядят на врача гнойники. Мерзкий пот, мороз по коже, температура подскакивает. Изнурительно, гнусно, неопрятно, ужасная вонь. Себя ненавидишь. Папа разражается фолликулярной ангиной.
Илья выкрал из магазина жалобную книгу и всю ночь писал в нее. На что жалуетесь? – спросил врач-отоларинголог – На папу. – А почему бы вам папу не удалить?… Нет, ну натурально у врачей безликий позитивизм мышления – разве можно удалить папу? Папа не зуб, а праздник, который всегда с тобой.
УЖАСНЫЙ ВЕК, УЖАСНЫЕ СЕРДЦА
Впрочем, Илюша все-таки согласился на удаление. Ему выписали направление в больницу, и он уже даже туда пришел с узелком… И что же? В последний момент папа убежал – прямо из-под ножа. И вместе с Ильей. Тогда Илюша попытался изгнать папу орошением гланд антибиотиками, на что папа ответил такой потрясающей аллергической реакцией, что Илюша никак до сих пор от нее не может оправиться. Это было, как катастрофа Российского флота в горловине Цусимы. Илья весь посинел, скорчен в немыслимой позе, хапает воздух, как рыба. На лицах врачей удивление: малый, ты что это? – а он не здесь – далеко. Он слышит какие-то стоны, крики и вой. Он видит мир глазами деда Луки, матроса с Осляби. Пластырь заводи!!! Братцы, я надеюсь, что вы не пощадите своих голов за веру, царя и отечество. Вы ведь русские матросы… Ноги скользят по обильно пролитой крови. Черно-желтые вспышки фугасов, а разрывов не слышно в зловещем кошмаре безвыходности. Японские крейсеры в упор расстреливают вышедший из строя броненосец. Бонзай! Дальше, дальше от бортов. Отплывайте как можно дальше! – Капитан орет в рупор. – Вас затянет, болваны, водоворотом. Дальше, черт вас возьми!
На этот раз Илья оклемался, но болезнь перешла в ужасную хронику: чуть что не то понюхал, съел или даже подумал – уже начинается… Со стороны это видится так: ты лежишь на боку в мирной позе младенца и трясешься от холода в сердце, от страха – сейчас все начнется. Хочешь спать и не можешь. Дух захватывает, ибо снизу на легкие давит печенка. Кто-то в черепе жмет на затылок, старается заломить голову к спине. Закроешь глаза – в тот же миг тошнотворное опрокидывание себе за спину, переворот вокруг колкой оси, проходящей сквозь сердце. Бьешься, ищешь опору, вскакиваешь – стоя не так страшно – и ощущаешь, как голова сама собой задирается и коснулась спины. Так и остаешься некоторое время с натянутым луком горла. Это почти что приятно – как будто свалил с себя тяжесть. Но быстро устаешь – слабость, ноги дрожат и ноет печенка. Ложишься, и все начинается снова.
О, МОЙ ИММУННЫЙ ОТЕЦ, ПОЩАДИ
А ты веди себя правильно. Не лазай по запретным деревьям, не заигрывай с нимфами, будь осторожен во всем, и тогда с тобой ничего не случится… Как будто бы это возможно! Иногда обо всем забываешь, путаешь – что можно, а что нельзя. Остается одно только – хочется. И не поймешь даже толком: кому это хочется? Сам-то я вроде бы – против. Но Люда вот улыбнулась, у нее бесенята в глазах… Надо бежать, но она подошла и откупорила меня, как бутылку. Нет, сынок, это ты сам подошел, потому что в глазах ее за улыбкой увидел немую тоску. Ты правильно принял ее за Манон, но почему-то решил, что ей надо помочь. Она требует помощи, надо ободрить ее. Я подошел к ней совсем не затем, чтоб на дерево лезть.
Отойдите в сторонку, не пытайтесь помочь одержимому бесом, ибо бес в нем только и ждет того, кто придет помогать – чтобы наброситься на него. И вы броситесь друг другу в объятия, начнете вести душеспасительные беседы, разжигаться, совокупляться. Бес разбудит в вас беса – безумие, страсть кого-нибудь задушить, размазать рожей по стенке. Едва сдерживаюсь. Брань потоками из меня хлещет, и притом – очень складная… И ужасный озноб. Болит горло, начинается лихорадка. Озноб и нервозность идут параллельно – отец разыгрался с сестрой, моей шакти.
ЧТО ЕСТЬ ШАКТИ?
У меня такое впечатление, что гадина Полька специально ходила всегда по утрам в одной только черной короткой своей комбинашке – пол подметает, стелет постель. На магнитофоне – Высоцкий. Эй, Илюшка, иди сюда – будем почковаться. Я вхожу, горя глупым лицом… Нет, ты что?! Ты меня не так понял… Да ты… выродок, ты совсем очумел, что ты? Ну, сволочь, подонок, придурок, урод! Вошь тифозная – весь в папашу…
Что есть шакти? Это женская энергия – ипостась бодхисатвы, то есть фаустовского человека. Ибо – что такое бодхисатва, как не совершенномудрый (почти) человек, занятый все еще делом. Шакти ведет человека, побуждает его к поступкам. Это – его либидо, изображенное на буддистских иконах в виде женщины на члене у бодхисатвы. Она его тянет вперед, эта личная мудрость – софия не совсем еще совершенномудрого, который, отбросив ее, погрузится в нирвану. В совершенство бездействия. «Остановись, мгновенье», – воскликнул Фауст и тут же поник, сронив принцип движения с члена. Он пал и бездвижен, а Маргарита парит в стороне – тиха и безгрешна, как вечная женственность Будды, за которой теперь уже больше не надо стремиться.
Интересно, что двигало Каином? Разве не Шакти, не страсть, не любовь его к Богу? Ведь только страсть жаждет жертвы и жертвует. Каин – злой бодхисатва Ветхого завета. Первоубийца, ломающий куклу, дабы посмотреть: а что там внутри? Анатомирующий жрец, первоученый с обсидиановым скальпелем духа разрушения в волосатой руке. Этим ножом человек рассек себя надвое, чтобы Бог мог посмотреть – что есть человек. Вот воистину жертва! Как и при расщеплении атома, высвободилась энергия – страсть, шакти, любовь!..
НО ЖИТЬ ТАК, КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ
Не надо, Илья, расщеплять себя, ибо пристрастный анализ собственной души – далеко не безобидная штука. Ты буквально расколешь себя, расклеишь то, что было склеено жизнью, и вот уже части души не стыкуются, искривлены, не играют здоровыми мышцами равновесий, рождая гармонию, но давят друг друга, топают, трут, раздражают до боли. И ты уже вовсе не ты, а марионетка в руках неумелого кукольника. Это не жизнь, а сплошная гражданская бойня отца и сестры в твоем организме.
Полька делает истерический выпад: вперед, что-то делать. Я весь киплю от восторга и желчи: скорее вперед, наорать на кого-нибудь, трахнуть, размазать рожей по стенке, испортить, сломать. Специально и не курю, чтоб еще быть безумней, нервнее. Пускаюсь в какую-то авантюру… Но вот уже озноб по спине – это отец заботливо берет меня в свои руки. Валюсь в горячке, авантюра моя захлестнулась – аллергия, ангина, задыхаюсь – черт знает что! Глотаю таблетки, разрушаю печенку, умоляю отца отступиться. Но он блюдет свои и мои интересы. Очередная подлянка сестрички в отношении папы не удалась. Бедняжка пошла красными пятнами, кусает в бессилии губы, в глазах крокодиловы слезы обиды. Как жалко ее – она чувствует себя такой несчастной, ей не удалось… Ничего, как-нибудь в другой раз она отыграется на папе – Илья еще подергается в холецистите.
А сейчас он лежит, погребенный под обломками внутренней битвы, и задыхается. Рядом ходят живые, он хочет позвать их на помощь, но уже нету сил. И они уходят один за другим и оставляют Илью одного.
В СЕНТЯБРЕ ОН РЕШИЛ НА ВСЕ ПЛЮНУТЬ И УЕХАЛ НА ЮГ
Когда за поворотом шоссе открылось море в предвечернем сиянии, я вдруг расплакался, словно ребенок. Ведь сегодня еще на рассвете я проснулся от жуткой уверенности, что нет, не существует в природе никакого моря, что я его попросту выдумал, чтобы утешить себя.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В Крыму Илья Слепнев встречает своего старинного приятеля Аркадия Стечкина за последнее время весьма поседевшего преступной своей головой в местах не столь отдаленных. Стечкин вводит Илью в одну веселую компанию, где немало людей замечательных. Особенно стоит отметить Дарью Ахохову с дочкой Машенькой и ее давнего поклонника Олега Давыдова, хроникера настоящей истории. Оборотистый Стечкин предлагает Илье прекрасную возможность подзаработать.
Непонятно, что общего у Дарьи со Стечкиным? Вроде бы крепко стоит на ногах эта женщина. Сфинга в некотором роде – все больше молчит, смотрит. Голос низкий. Прямая и строгая, с характерным лицом горянки. Кабардинка какая-то, что ли? Или черкешенка?
Вечер у моря. Под шелест прибоя славно пьется сухое вино. Разговоры о прошлом, об общих знакомых. Того посадили, а этот женился… Помнишь? Еще бы. Хороший был человек… Постепенно пьянеешь, несешь околесицу… Нинку ты знал? Сейчас в «бутырках» – из эфедрина какой-то наркотик варила… а какие писала стихи… Ну! А пять лет назад ты мне говорил – вспомни – нужен канон, чтобы не расползаться. Да-да, верно, Андрей Белый… А с фаустпатроном под танк под Москвой, если китайцы придут…
Ты вот точно такой же, как провинциальные деятели культуры, знаешь, бывают. Такой же восторженный… И манера говорить у них необычная – до седых волос все эпатировать пытаются. Они еще все такими кружками существуют и постоянно друг друга хвалят. Они хэнии друг для дружки. Кто-нибудь стишок прочтет – все вопят: хэниально! Признайся, ты ведь тоже себя чувствуешь хэнием?
После этой фразы, сказанной ни с того ни с сего, но с ехидным хихиканьем, у Илюши надолго отпала охота беседовать с Дарьей. А Дарья, срезав его, теперь ему свысока сострадает: ничего, мол, ты в общем-то малый хороший… Но дела иметь с ним – нет, ей не хотелось бы. Понимаешь, у него гнильца внутри есть. Все его умничанье от этого. Но как он в себе неуверен. А эти ужимки – потуга развязности… Иногда он просто несносен бывает – концерт для трех бубнов с гнусавым оркестром.
А ПОЧЕМУ ТЫ ВООБЩЕ ВЗЯЛАСЬ ЕГО АНАЛИЗИРОВАТЬ, А?
Однако Илью любят дети. Особенно дети чужие, к которым ему не приходится применять воспитательные меры суровости. А он – нельзя сказать, чтобы он особенно любил детей, но – он сам становится с ними почти что ребенок. Не замечая того, сам впадает в детство, что детям весьма импонирует. Машенька, Дарьина дочка, уже на другой день была без ума от Слепнева и бредила только тем, когда же, наконец, появится дядя Илюша? Дядя Илюш, а пойдем, где игровые автоматы – ты мне флакончик духов выиграешь. Можно, мама? Оставь-ка дядю Илюшу в покое. Ты что это? Да, брат, ты ее приворожил, видно. Она без отца соскучилась. На тебя запасы любви переносит. Ты пока что не очень устал? Илюша совсем не устал, даже рад.
Машка на мать очень мало похожа. Только временами похожа, когда Дарья сбрасывает покрывало своей стервозности. Нет, вообще-то она не такая уж стерва. Напротив, бывает очень мила, когда в ней играет задорный бесенок – тот же самый, что в дочери. Но хоть Дарье нет еще и тридцати лет, в облике ее и характере начинают уже проступать явственные черты архетипа кавказской матери – женщины строгой, без возраста, на многое готовой пойти ради потомства.
А обратил ты внимание, что когда она с тобой разговаривает, голову держит все время повернутой чуточку вправо? Дело не в этой вот небольшой деформации ее лица – это ерунда – нет, она по-моему, правый глаз прячет. Держит его немного в тени. Потому что он неподвижный, холодный и злобный, даже когда она смеется. Ее портит этот дурной глаз, и она это прекрасно осознает. Потому и старается смягчить впечатление, убрать эту сторону своей души на задний план, за переносье, и уж оттуда выглядывает настороженно, затравленно. И на переднем плане тонким налетом – кокетство, игра, озорство. Она ведь даже улыбается одной левой половиной лица. Это забавно – попробуй поймать ее взгляд, когда она будет смотреть куда-нибудь влево.
УВИДИШЬ ОДИЧАВШУЮ СУКУ
Я всегда бабушку очень любила. И маму, конечно, но бабушка – это особое. Такое, знаешь… уголок в моем сердце. Святое! Все самое лучшее там. У нее дом был и сад… Ну, то есть… это и сейчас все есть, но ее нет там. А на ней все держалось. Мой дедушка… это недоразумение какое-то. Абрек. Он в дикой дивизии во время империалистической войны был, и что-то такое там на него, офицер, русский, прикрикнул. Ну, дедушка этого, конечно, вынести не мог, он его шашкой – напополам. От плеча до пояса. И, естественно, в части уже оставаться нельзя было. Он дезертировал, скрывался где-то там некоторое время. И так, без драки, попал в большие революционеры. Как раз революция случилась. Потом уж на этот капитал он всю жизнь успешно просуществовал. Хитрый… Он и до сих пор жив. Но бабушка его, конечно, всегда презирала за всю эту подлость. Бабушка женщина очень суровая была – она как раз в самые ужасные годы фабрикой руководила. Сколько она сделала ради детей, ради мамы… Отец? Да ну… так – партийный прихлебатель. Никогда запомнить не мог, сколько мне лет. Мама с ним развелась. В то время – неслыханное дело в нашей республике.
Какое откровенное неприятие мужчин в этом матриархальном кавказском роде. Между прочим, своего мужа, преуспевающего графика, Дарья тоже за человека никогда не считала. Он стоит, конечно, того, но ведь все-таки муж… Да, пожалуй, она и выбрала этого надутого пузыря, исходя из той предпосылки, что мужчина – должен быть мразь. Видеть иное – нет опыта. Как это люди спят между собой каждый день? Наверно очень утомительно…
Нет, но я представляю, как ему утомительно было с ней жить. Ведь Дарья – бурлящий казан с азиатской похлебкой. Настроение изменяется прямо мгновенно. Невыносимо, когда обращаешься к ней, все еще доброжелательно улыбающейся, а на тебя уже беспощадными зенками глядит дедушка-головорез и раздувает хищные ноздри – зарэжу! Правда, это ингушское рычание переложено у Даши на безукоризненно ясный безликий язык образованной женщины, но от этого вовсе не легче – она срежет им вас еще хлеще, чем дедушка шашкой.
ТЕПЛЫЙ ГУЛЬФИК ДЛЯ МУЖА
И кого же, Илью, такого, как все считают, знатока самых темных закоулков русской культуры, она способна вдруг уличить в том, что он не читал какой-нибудь роман Достоевского. То есть как не читал? Да я его раз двадцать прочел и весь наизусть знаю… Можно читать хоть тысячу раз и не понять ничего.
Ты не расстраивайся, Илюш, не надо, не попадайся на эту дурацкую удочку. Это в ней гусаки горского гиперборейства гогочут – безоглядная вера только в себя. Она же в этом Достоевском наверняка что-то смутно кавказское углядела, родовую масть в «Преступлении и наказании», левират в «Братьях Карамазовых»…
Да, но при этом иметь такой вид знатока. Постоянные анекдоты из жизни художников, друзей мужа. Совсем как-то глупо и неорганично: связала мужу теплый гульфик… И что?
Пытаешься создать нелепое впечатление, что запанибрата с советской богемой? Не поверю. Это дело почтенных художников – постоянно муссировать член: призывать его, заклинать, мять и резать на части и держать его на устах. Но ты-то куда?
Нет, ну, положим, когда она в общем разговоре за столом, забыв обо всем, увлеченно устанавливает на попа неустойчивый, косо срезанный конец колбасы… Это другое дело. Это, можно сказать, коренное, это идет из глубин. Тут подлинный пиетет всего существа перед чем-то серьезным и важным, а не декоративная сексуальность: спать с мужчиной? – о да, это весьма увлекательное занятие, но – утомляют…
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ГОРЫ С НОЧЕВКОЙ
Постепенно далекое море слилось с вечереющим небом. На горы упала прозрачная дымка и стала пульсировать в тихом движении ветра. Потом ветер стих, краски тоже поблекли. Все осталось как будто без цвета, играло в ленивые прятки, и лишь нагло светился костер. Пахло дымом и жареным мясом. Дым шел к небу. Мы капельку выпили. Поднималась луна. Ее луч показал, где кончается море. И все прояснилось внутри перламутровой ракушки гор.
Сцена интересна по композиции: Илья с Дарьей – у самого края обрыва. Напряженно молчат. Чуть подальше – все остальные. Болтаем о звездах. О, непомерность Илюшиных сантиментов – на него вдруг нашло, рядом с Дарьей, беспричинное чувство радости и обновления. Захотелось уйти в это чудом открытое небо. Эта ночь и луна… ее свет растворил его душу, глаза увлажнились. Ночь проросла изнутри. Я вынашивал свет этой ночи давно, носил, как ребенка, в себе, и теперь вот он вышел наружу. Надкуси этот плод, насладись его сладостным соком…
– Будем всю зиму в Москве вспоминать, – сказала вдруг Дарья, и на Илью тут же нахлынули воспоминания. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему.
И, НАПРИМЕР – ЭТА СТРАННАЯ ВСТРЕЧА В ПЕСКАХ КАРА КУМ
Давняя история еще студенческих лет. На летней практике я неудачно влюбился. Она надо мной посмеялась, и я тогда с горя напился. Никого не хотел видеть – ушел спать за барханы подальше ото всех. Была ночь полнолуния. Я был пьян своим горем и тепловатым гидролизным спиртом. Несмотря на подпитие, мне не спалось. Я лежал в раскладушке, все проклиная, и вдруг из недр пустыни выплыло нечто – фигура о трех головах – как будто бы кто был закутан плащом, но – с тремя капюшонами. Это плыло, словно темное облако в свете луны, шло, одеждой касаясь земли. Двигалось медленно, обтекая препятствия. Было не страшно, но странно. Оно приближалось. Остановилось, сказало: не бойся. А я и не боялся, был только скован. Оно еще немного приблизилось – руки мои прошли сквозь завесу тумана, и я ощутил тугое сопротивление осязаемой тьмы под своими ладонями – как вода. Они мне сказали: что же ты плачешь? – а я и не плакал, но было так грустно, что я и действительно вдруг как будто заплакал. Не печалься, пустое – все хорошо. И сейчас у тебя все прекрасно, и всегда будет хорошо. Мы с тобой, мы тебя поведем, не оставим. И всегда за тобой будем следить. И ты сделаешь все, что хочешь. Всего, чего хочешь, достигнешь. Мы поможем тебе.
Но я плакал и не понимал, кто они. И даже не думал об этом. Я плакал наверно от счастья, потому что мне точно было так хорошо и спокойно, как никогда. Так они говорили со мной, а потом стали удаляться. И, глядя им вслед, я заснул…
Я, в общем, был подготовлен к этой нечаянной встрече, и с раннего детства слышу в себе чужой голос. Но вот когда ребенком услышал его в первый раз – я был действительно потрясен. Родители посадили меня в автобус, я ехал в гости к сестре, и вдруг по дороге меня кто-то окликнул. Я встрепенулся, стал оглядываться – никого. Что с тобой, мальчик? – спросил сосед, которому поручили за мной приглядеть. – Ничего. Голос опять повторился, и я стал осторожно отвечать ему – в себе. Так мы беседовали всю дорогу, и я был ужасно горд, ибо думал, что это я один такой выдающийся. Я никому ничего не рассказал тогда об этом случае – хранил это, как непристойную тайну. Постепенно я превратил этот чужой голос в инструмент для размышлений, освоил его. Но все равно: временами отчетливо чувствую, что во мне живут двое. Я сам – тот, кто вот сейчас хочет и действует. И другой – мой противник, который хитрит и ставит подножки. Просто хочет меня погубить. Стоит мне отвернуться, забыться, как он уже сделал какую-то пакость моими руками, что-то такое ляпнул непоправимое, овладел ситуацией. Он отлично меня знает – все слабости. И воспользовавшись каким-нибудь Стечкиным, какой-нибудь Людой, Машей, Дашей, черт их не знает, вступив с ними в контакт и союз, он может довести меня до изнеможения, до безумия, до болезни…
ИЛЬЯ ИЩЕТ СЕБЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Косые изломы пространства громоздятся почти нереально над покатой поверхностью вод. Даль чревата неведомым смыслом – ну, проникни в него, прочитай, истолкуй, им пропитайся. Что ждет тебя там, за крутыми хребтами уснувших времен? Ворожи – в эту ночь клады гор выступают наружу. Потухший вулкан, ты когда-то бурлил, изливая ленивую лаву. Твой мозг теперь медленно плещет волной застывающей мысли, Минерализованный смысл. Натыкаешься всюду на грани кристаллов и опять узнаешь себя в них – это было когда-то. А что же теперь? Неужели все то же? Или, может, сегодня расщепленная скальпелем лунного света моя жизнь позабыла себя и теперь слепо бродит среди этих горных долин – натыкаясь на камни, скользя на неверных тропинках, осыпаясь по склонам, теряя свой вес и объем. Как искусственно все, как неверно и дико. Хитрый синтаксис сна. Куда же пойду, где их встречу?
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ДАШИНОЙ БАБУШКИ
Сильный ветер – такой, что ломает деревья в саду. Ветки бьются в закрытые ставни. И в дверь кто-то вроде стучит. А дом как будто бы вымер – никто не идет открывать. Даша спускается вниз по лестнице к двери. Там, за дверью, в сумятице бури, кто-то скребется, стонет, зовет.
Я знаю, что нельзя открывать, но как не открыть – и любопытно, и жалко… Подошла, сняла щеколду, кто-то там навалился снаружи, дверь распахнулась – через порог в дом ввалился ужасный, изуродованный, весь в крови человек. Упал и лежит. Что с ним делать? Она начинает его обмывать, и он ей все больше нравится. Он ей уже не кажется таким уродливым… наоборот… она им почти любуется.
Но вдруг появляются родственники: бабушка, дедушка, мама, отец, дядя, тетки, сестра – толпа родственников. Они недовольны, галдят. Дарья мечется, не знает, что делать, ее все дергают, шум, родня старается вытолкнуть пришельца…
Как он может так жить? Человек вроде не без способностей… Когда видишь подобные вещи, хочется спросить: это что – обломовщина, или он серьезное право имеет? Связался с каким-то богоискательством, скоропостижно женился, скатился на самое дно. Почему?.. А я был инфантилен, и желал исправлять карту звездного неба. Самое полезное занятие для исправляющего.
НО ДЕТСКИЕ ИГРЫ ГУБИТЕЛЬНЫЕ, ЕСЛИ ЗАТЯГИВАЮТСЯ
У Илюши невроз, это точно, и он его пестует в себе, как какого-то бога. Вот в чем все дело. Это он, невроз-бог, заставил его спуститься на самое дно. Там внизу, в самых недрах, Илья собирался обнаружить его, усмирить и, если получится, вывести к свету. Но невроз (бог русского человека, – считает Илья) оказался подлинным монстром подпольных глубин. Он вцепился в своего поклонника когтями и клювом – не желает его отпускать… Вот ведь страсть – видеть перед собой постоянно огромного молоха, терзаться печенкой и гландами, понимать, что с ним разговоры вести бесполезно, желать убежать и не мочь, ибо – давным-давно уже сросся с ним. Ты уже его часть, он тебя воспитал. Ты его и ненавидишь, и любишь – как мать и отца вместе взятых. Цепенеешь под взглядом дракона, с трепетом ждешь, когда ему будет угодно тобой закусить. Прославляешь его, но в то же время и хаешь. Потому что он это собственно – ты: лживая тварь, зовущая к правде.
НЕТ, ЖИЗНЬ НЕ КОНЧЕНА В ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД
Итак, мы все улеглись спать, а Илья пошел бродить среди скал в поисках смысла жизни. Он уверен, что если и не встретит здесь свою Тройку, то все равно – она подаст ему какой-нибудь знак, приоткроется. Впрочем, он получил уже этот знак – увидел его в лунном свете, струящемся по дарьиным волосам. И возликовал, воспарил, живая вода пролилась через край, все тайное стало вокруг явным для него… Но все-таки хочется еще подтверждений, какого-то убедительного символа, типа – вдруг в левой ноге, чуть повыше ботинка, почувствовать острую боль.
Черт побери! Это что? Не рассмотреть – слишком темно. Но боль ужасная. Жила на месте укуса сразу вздулась и затвердела. Что же делать теперь? Если это змея, надо высосать яд. Но не дотянуться. Это, Илюш, укус бессознательных гадов не иначе… Нет, он, конечно, страха не чувствовал. Даже был отчасти рад: вот оно как получилось – тать в ночи, эманация геогностической мысли, сбой в компьютере ночи, им взлелеянной созданной. Я вырастил дерево ночи, и под ним, средь корней его, должен быть змей. Горькосладостный…
Покуда Илья предавался мечтам и воспоминаниям, луна закатилась за гору. Стало темней, холодней и гораздо обыденней – время замкнулось, скалы стояли как скалы, и море плескалось вдали. Хмель сошел, налетели москиты. Светало. Над одной из вершин взошла яркая звездочка. Она плыла, как кораблик, в подсвеченном утреннем небе.
СВОДНИЦА
По дороге домой с пикника маленькая Машенька ни на минуту не отпускала Илью от себя. Он должен был всю дорогу вести ее за руку. А поскольку маму тоже никак нельзя было потерять из виду, Илья оказался привязан накрепко к Дарье. Он этому рад – мало-помалу они разговорились, сошлись покороче. Дарья, довольная тем, что Илья возится с Машкой, реже оборачивается к нему дикой своей стороной. Она весела, беззаботна. Да и Илья беззаботно смеется с ней – как с маленькой Машенькой.
– Посмотри-ка, – сказала Дарья, подбирая двух богомолов, – один прицепился к другому. Прямо даже срослись. Зачем, не пойму?
– Неужто не знаешь?
– Нет, а что?
– А если это глубокое чувство?
– Быть не может. Один явно уползти старается.
– Такое и в нашей жизни случается сплошь и рядом. Но это обман – пустое кокетство…
– Да? Я не подумала. Ладно, впредь буду умней.
ЕСЛИ ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ ЛЮБОВЬЮ, ТО ЧТО ЖЕ ТОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ
Иногда все прекрасно – хочется на нее смотреть и смеяться от счастья. Вот в левой глазнице ее задержалась печаль, сморщась, прикуривает, задумалась, поправила шаль, села прямо. Говорит – что не важно – ласкает мелодией голоса. Но – вот она же: издевочка в голосе, щучий напор и угроза… Невольно оглядываешься: почему? что случилось? Плотскими глазами видишь в ней двух разных женщин. То есть в самом наибуквальнейшем смысле. И совершенно сознательно обращаешься то к одной, то к другой…