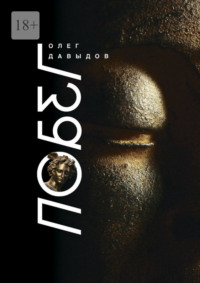Полная версия
Кукушкины детки

Кукушкины детки
Олег Давыдов
Авраам родил Исаака…
Быт. 25, 19.
Оформление обложки Марианна Мисюк
© Олег Давыдов, 2022
ISBN 978-5-0056-9201-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Лето 1985 года. В семействе Ильи Слепнева весной умерла тетка его тещи, Ревекка Израйлевна Райзахер, 1897 года рождения. Отношения между членами семьи с этой смертью неуловимо изменились. В доме происходит ремонт. Все сдвинуто со своих мест. Ничего невозможно найти, и наоборот – обнаруживаются вещи, утраченные много лет назад. Разговоры о будущем. На кухне горы немытой посуды и обед всухомятку в компании мух. Очень жарко.
Люди в звериных шкурах в пещере у огня – картинка из учебника. Огонь – домашний бог, сама жизнь, а в дальнем углу, где пляшут смутные тени, зарыт предок. Туда заглядывать страшно. Это прошлое – его опасно тревожить, но оно тоже здесь, у огня, в наших жестах и разговорах.
Лежа ночью без сна, иногда невозможно понять в темноте, где во времени я обитаю? Сколько мне лет? Кто я – шестилетний мальчик, забытый в одной из тысяч одинаковых комнат среди занесенных снегом пространств, или – шестидесятилетний старик, только думающий в заблуждении своем, что ему сейчас тридцать три года. Неужели это я лежу здесь, рядом со спящей женщиной, чудовищно переживающей свое начавшееся увядание… И уже все известно, что с нами будет – и было? – как потечет эта жизнь в своем русле… Страшно спугнуть очарование – протянуть руку, щелкнуть выключателем, посмотреть в зеркало. Страшно и бесполезно! Ведь если бы шестилетний Илюша увидел в зеркале свое шестидесятилетнее лицо, он бы наверно подумал, что спит.
Еще в апреле появились первые серьезные симптомы – услышал по радио пение Иосифа Кобзона и заплакал. Ночами закрадывались странные подозрения, будто комната, в которой он лежал, безнадежно больна. Она пахла болезнью и корчилась, тихо стонала. Хотелось вскочить, убежать. Куда? Начинался озноб, казалось, по телу ползут насекомые, прикосновение одеяла болезненно раздражало, легкие схватывали воздух, но его не хватало… Тихая паника: тебя заливает потоками пота. Лежишь в теплой луже и умираешь. И снится, как изнутри замерзаешь под яростным солнцем пустыни, а в соседней квартире Маркс сдает экзамен по политэкономии социализма. И с треском проваливается…
Нет, ты послушай старуху – аскорбинку надо пить. Это у тебя авитаминоз, я как врач говорю. Вот в пятнадцатом году на Румынском фронте цинга была – все были скрюченные, многие умирали, ноги отнимали… Так привозили шиповниковый сироп ведрами. А потом – кажется в шестнадцатом – был Брусиловский прорыв. И, этот Брусиловский прорыв… Сколько народу! Члены поотрывало, мошонки. Некоторые по полгода у нас лежали. Потом же домой надо возвращаться, а они не хотят. Как быть – неудобно к жене идти.
ОНА ЕГО УБИВАЕТ ВО СНЕ
Ты живешь себе в недрах семьи среди мелочей быта, часто невидимых простым глазом. Но наведем микроскоп. Кто просил тещу стирать носки? Никто. Слепнев сам их стирает всегда. А иногда утром вдруг обнаружит свои носки мокрыми – все! – порыв любви к хозяйственной деятельности. И приходится надевать их сырыми в мороз и бежать на работу. Или в разгаре болезни, когда Илья спит весь в поту и соплях, жене его вдруг станет жарко средь ночи. И она тихонечко встанет и откроет окно. Не то что она хочет, чтоб Илья совсем разболелся, она просто забыла о нем и его болезнях… Она его убивает во сне.
Я с детства думал о том, что можно уйти и больше уже не вернуться. Спал и видел. И вдруг, сразу после окончания университета, исчез – не писал, не звонил, не появлялся. Сестрица, конечно, рвала и метала. Я страшно боялся, что она меня выследит, набьет морду, вернет под опеку. Даже в сумасшедший дом засадит, с нее станется.
Однако момент был выбран удачно. Полина Семенна только что родила долгожданного сына, который отвлек ее страсть на себя: надо было ему срочно устраивать болезнь печени. На всю жизнь ведь – не шутка… С первым-то ребенком она поспешила – родила его уже совсем мертвеньким, этого второго – все никак не могла зачать. Других пока не предвидится – значит, надо работать с тем, что имеешь. Илюшка пусть подождет.
БЕЖАТЬ В ПУСТЫНЮ ОГРОМНОГО ГОРОДА
Только где-то уже через год получил он от Польки открытку ко дню рождения и покрылся испариной. Открытка была лаконична, как черная метка пиратов. «Поздравляю», – гласила она. Значит, мой новый адрес раскрыт!? Нет, все обошлось, но поступить так подло с сестрой… Неблагодарная тварь! Надо было оставаться в ее когтях, а Илья придумал себе оправдание: моя жизнь будет опасной. И тут же связался с диседой, чтобы иметь моральное право с сестрой не общаться. Зачем мешать ее карьере?
Вечный страх обитателя маленького городка: выследят. «Осудют» – страшное до сих пор слово. Я в детстве мечтал затеряться в толпе, бежать с глаз долой от соседских сплетен. Скрыться, зарыться в песок, облачиться в духовное хаки. И теперь еще все хожу маскируюсь, ношу самую неброскую одежду. Мне нужен большой город, чтобы спрятаться в нем. От кого же?
На восьмое марта маленький Илюша подарил своей бабушке пластилиновую поделку – Баба Яга летит в ступе, погоняя метлой. Очень реалистическая фигурка – Яга вся изогнута влево, как каноист, делающий усиленный гребок. Бабушка была парализована на левую сторону. Нижняя часть тела скрывается в ступе. Серые волосы вьются в космическом вихре. Черная пасть, нос крючком и глаза навыкате грозно горят. Бабушка страшно обиделась и расстреляла внука скрюченным пальцем: кых-кых! У нее не все дома.
ШАРЛОТТА КОРДЕ
Бабка Ильи по матери, Анна Ивановна Макова была дочерью офицера старой царской армии. В эпоху красного террора она потеряла отца, мать, трех братьев и, если не ошибаюсь, двух сестер. Аресты всех названных лиц произвели разновременно, в различных местах и Анне Иванне пришлось пройти сквозь целый долгий ряд напряженнейших психических переживаний, связанных с теми сменами надежд и отчаяния, которые неизбежны бывали для родственников лиц, попадавших в учреждения чрезвычайных комиссий. Нервы не выдержали. После казни последней сестры она в полубезумном состоянии явилась в Киев к генералу Драгомирову и предложила ему совершить террористический акт над Троцким, которого считала главным виновником всех разразившихся над ее семьей бед.
Следовало бы попросту отправить твою бабушку в лечебницу, поскольку она производила впечатление настолько невменяемой, что тяжело было на нее смотреть. Драгомиров, однако, ухватился за ее предложение с большой радостью. А чтобы закалить расшатанные нервы, ее стали водить на расстрелы, приучали к виду крови. Предполагалось через некоторое время дать ей самой собственноручно расстреливать, чтобы набить руку.
Но уже в те дни мысли ее довольно явственно отклонялись от «акта» к роману с одним из наших молодых товарищей, подпольщиком Кузьмой Кузяковым. Роман разыгрывался, в связи с этим подготовка затянулась. А когда Драгомиров стал ее торопить, время оказалось безвозвратно упущенным. Анна Иванна действительно переправилась через линию фронта, но только не с тем, чтобы застрелить Троцкого, а потому, что оказалась в интересном положении от товарища Кузьмы. Мы все боялись, как бы генерал-губернатор не принял мер к устранению неудобных для него соучастников террористического замысла, а заодно – ребенка. К сожалению, сам Кузьма к тому времени уже пал жертвой в борьбе.
Так в славные дни была зачата Илюшина мать, Елена Кузьминична, которая в 1938 году и сама уже родила дочку Поленьку, Илюшину сводную сестру. Поля к пяти годам осталась фактически сиротой, ибо отца – по причине обострения классовой борьбы – она лишилась еще не родившись, а мать, Елену Кузьминичну, фашисты угнали во время войны куда-то в Чехословакию, где она работала у немецких колонистов, которые выбросили ее умирать на помойку, когда она заболела плевритом. Маму подобрала и выходила одна чешская семья по фамилии Хгртдина.
Сестру в это время воспитывала бабушка. И Илюшу впоследствии тоже. От пережитых страданий Анна Иванна сделалась самой настоящей ведьмой. От нее ничего нельзя было скрыть – она все знала, и в понимающем взгляде ее был безумный огонь, от которого нету спасенья. Если ты провинился, она молчит – выдерживает тебя в предвкушении муки неизбежного наказания, пока ты сам наконец всего не расскажешь. И тогда все равно тебя накажет без скидок. Это была такая тоска… И еще она очень любила пугать. Перед смертью, когда она только лежала и ничего давно уже не говорила, Илюша вошел как-то к ней и вдруг услышан мяуканье. Он вначале лишь удивился, а потом, когда увидел бабушкин взгляд – злой и хищный – бросился в ужасе вон. И она ему кыхнула вслед. Он боялся ее даже когда она была уже в могиле, – как вспомнит, так сразу тоска. Она ему постоянно являлась во снах, его преследовал старческий запах. Однажды, выйдя на кухню, он увидел умершую бабушку. Она улыбнулась, заковыляла навстречу. Не доходя двух шагов, вдруг выхватила нож и замахнулась им… Илья не дал бабушке заколоть себя, и она зарычала. Ни слова – только рычание. Бабушка слабая, рычит от бессилия – жалко ее. Горько заплакала, когда из левой парализованной руки ее выпал нож. Она меня чуть не съела.
КОЕ-ЧТО И ТЕБЕ ПЕРЕПАЛО ОТ ХАРАКТЕРА БАБУШКИ
Подлинным субъектом семейной истории может быть только род, а не отдельные члены его, которые есть всего лишь результат расчленения рода инструментом анализа. Мы с этим нашим инструментом уже настолько срослись, что иначе даже глядеть не умеем – видим одни только частности и не видим за деревьями леса. А если копнуть в глубину – раны, нанесенные осколками гранаты прапрадеду Ильи по офицерской бабушкиной линии, вышли на теле праправнука в виде родинок. Эти раны продолжают болеть, отягощают наследственность рода. Илья может и умрет-то от ран, полученных его прапрадедом в Севастополе в несчастную Крымскую кампанию 1854 года. И в этом смысле он именно носитель идеи рода. Родинки – знаки судьбы, отметки пути рода во вселенной. Если, конечно, рассматривать род как единое целое живое существо, а восходящих членов его – как некие проявления сущности, невидимой телесными очами.
Отец намекнул в письме: дело далеко не исправимое, а очень опасное. Надо приехать проститься. Но я не очень-то поверил. Ехал, чтобы обрадовать мать своим присутствием, ободрить, делал даже как будто какое-то одолжение…
И вдруг вот она – лежит на диване с воспаленным отекшим, ужасным заплаканным смятым лицом – смотрит и не узнает. В этот момент как раз под ней меняли мокрую простыню. Дух в комнате страшный – зима, и окна запечатаны. Так она жалобно стонет, и – вдруг визг дикого зверя… За два месяца так измениться, превратиться в наполовину разложенный труп. Гнойные пятна пролежней, уродливо торчащие родинки, одна нога прежняя, полная, а другая – тонкая кость, покрытая кожей. И этот желто-сиреневый цвет всего тела. И она же еще жива и стонет. И кричит так ужасно. И вот это вот – моя мать?
Первое движение Ильи было убежать куда-нибудь, закрыть глаза, упасть в обморок от этого несносного зрелища. Но он смирил себя – подошел ближе, стараясь не дышать, наклонился, великодушно поцеловал ее. Она не ответила на его поцелуй, не узнала его, брезгливо даже попыталась отстраниться от него, как от чего-то инородного. Лицо ее сложилось в гримасу отвращения. Отец подошел и стал объяснять: Леночка, эта… ты глянь-ка – Илюша… Она кивнула, что поняла, но не проявила никакого интереса, а как бы канула куда-то в себя и затихла, тупо глядя мимо всего, что там было. Илья немного даже обиделся. Боже, как же они все могут здесь жить? Этот ужас! И Брат здесь растет.
МУЗА ОТЕЧЕСКИХ СЛЕЗ
Илюшенька, ты не ленись, учись лучше – потому что вон мы как тяжело трудимся, и никакой отдачи. А ты будешь играть на вечеринках и свадьбах, и все тебя будут уважать! И любить.
За моей учительницей музыки ухаживал милиционер. Однажды во время урока он строго спросил: как фамилия? Слепнев?! Известная личность. Раньше твой отец каждый день лупил твою мать. Как сейчас – продолжает?
Гад! Гад!! Гад!!! Опять нажрался, зюзя? Зенки свои поганые залил! Подумал бы о детях, мразь. Пойди посмотри, Илюша, на своего отца, на эту пьяную гадину… Иван Лукич принимает патетическую позу статуи командора: но, сука! Это как раз то, что нужно для развития сцены. Бабушка выставляет скрюченный палец, мама, взвизгнув, взвивается… Пошла народная музыка.
Гу-у-у… герой какой… Теперь отец даже в трезвом виде произносит это свое «гу-у-у» моего детства. Например, скажут ему: пьяная мразь, – а он в ответ только: гу-у-у. И так весело гукает. А сестрица моя ржет прямо ему в лицо.
Наполненные слезами мировой скорби глаза отца с детства мучат Илью. С годами (мы это увидим) он станет оскорбляться и совсем по-отцовски – ни с того ни с сего. Слепневские слезы, возможно, имеют источник в дали голубой. Где-то, пожалуй, средь ужаса волн студеного Баренцева моря, где во время последней войны корабль, на котором Иван Лукич Слепнев служил, был потоплен немецкой подлодкой. Отец не любил об этом вспоминать, но если уж вспоминал, то всегда с мировой своей слизью в глазах. Ибо, выжив во льдах, попал, по несчастью в тюрьму. Каждый день он жалобно стонет и плачет во сне – как будто с ним расправляются очень жестоко и злобно. И бредит о море, тюрьмах и холоде. Мать не велела будить его в эти минуты.
СОБИРАЕМ ОПЯТА В ПРОМЕРЗЛОМ ЛЕСУ
Я их резал левой рукой, ибо правая в гипсе. Что значит – поставить на кол? Отец объяснил. А четвертовать? А повесить? Да что ты, ей Богу? Ты эта, смотри лучше трактор какой… Без резиновых шин, со стальными шипами на задних колесах. Фордзон-путиловец. Теперь таких нет. Иван Акександрович вспомнил, как впервые увидел он трактор. Мы бежали за ним – точные шавки – и швырялись в его каменюками. Трактор стоял у частокола на опушке.
– На такие вот колья сажали?
– Не, чуть потоне, наверно.
– А потом кол вылезал через рот?
– Кто его знает. Тебе не холодно, Илюш?
Он спрашивал это меня по сто раз на дню и обижался, когда я отвечал: нет, не холодно. Скорбь застилала его глаза, он говорил назидательно: тепло оденься, не ходи раздевши. И ругался, когда я был в легкой одежде: ну, герой! Теперь я, послушливый мальчик, мерзну даже в жару и спрашиваю своего сына: тебе не холодно, Саш?
Илья вошел в частокол. Это был грязный пропахший навозом загон. По периметру загородки были устроены лавки, и на них сидели животные, одетые кто в дубленку, кто в кожаный пиджак, кто в рваный сатиновый халат, поверх вязаной кофты. Подошла румяная скотница – вам что? Илюша спросил: почему они все одеты так разношерстно? Потому что это не колхозное стадо. Каждый одевает свое животное, как может. Сисястая корова в кожаном пальто дружелюбно взглянула на Илью, жуя свою жвачку. Илья ощутил прилив энтузиазма, потянулся весь к ней, но скотница взяла его за руку и потащила в сторону. Мама! В ворота въезжал беларусь, одетый в замасленный ватник. Поберегись, молодой человек, чего тебе здесь шататься. Иди себе с Богом. Илья оглянулся на телку, перебирающую ногами, и пошел из загона.
А СНАРУЖИ ОТЕЦ БЫЛ ПОСАЖЕН НА КОЛ
Помню, отец приходил садился, туманил газа, обнимал меня: о, Илюша, Илюша, как мене тяжело, если бы ты только знал, как они мене терзали и морочили голову. И всхлипывал. И я вынужден был всхлипывать вместе с ним. Потому что любил его. И сейчас люблю. И он меня любит. Когда я узнал, что отец заболел аденомой, то сразу почувствовал некоторое беспокойство – в промежности. И вот несу свою предстательную железу, как единственный глаз по дороге к слепым. Но врачам не хочу показаться. Зачем? Чтобы лишиться последнего? А чем тогда буду предстательствовать?
Застенчивая улыбка, сентиментальный немножечко стиль… Тонкая изысканность черт в сочетании с книжкой «Манон Леско» худлитовского издания, которую она читает невнимательно. Ей пойдет моя белая роза. И ко всей ситуации этой пойдет, если розу я ей подарю…
А почему вы не скажете, что хотите со мной просто побаловаться? Ну, что вы замялись? Ведь так! Так – я же вижу… Нет-нет, все понятно, но вы мне все-таки скажите: хотите вы меня или нет? И никаких «предположим» – хотите? Конечно, хотите. Интересно получается, да?
Вообще-то мы любим поговорить и умеем, но – стоит только нам открыть рот там, где ситуация капельку не ординарна, не укладывается в наши провинциальные представления, как вместо естественных слов из нас раздается какое-то тявканье, карканье, или мычание. Эта… Илюш, я тебе… не надо – зачем? отец должен предохранять сына от всего вредного и опасного. Он живет в моем горле, в гландах, на контрольно-пропускном пункте организма. Он бережет организм от всякой инфекции. Правда, у него свои представления о вредном: все, с чем он никогда не встречался, – нельзя. А преступишь – накажет болезнью. Такой идеолог.
О, стерва Манон, и вместо духов благоухает вишневой эссенцией. Людмила Петкова измерила Илью каннибальским взглядом – с ног до головы – и осталась довольна произведенным эффектом. Парень стоит, как кол, задыхается – броненосец под всеми парами – и мямлит: вот, мол, как бы, а?..
Нет, я не любительница слишком потентных мужчин, они утомляют. Не надо! Вот мы с моим мужем всегда делали так. Смотрим, например, телевизор – ага, ритмическая гимнастика… Мы быстренько – трах-трах-трах-трах! – и опять сидим смотрим. Потом еще что-нибудь… И еще я люблю, чтоб стояли вокруг зеркала… Не трогай меня – не люблю. Ты очень порочный. У тебя есть такое в глазах… я замираю, в них глядя. Ты мог бы мне сделать такое, о чем я все время мечтаю, но не решаюсь попробовать… Все! Ну артист, вообще… руки прочь… А какие мужчины любили меня! И что самое интересное – я делаю их импотентами. Они пристают ко мне, просят, но я их мучаю, и в конце концов они уже ничего не могут. И даже вообще не хотят. Приготовься.
ТВОЯ МАМОЧКА ТОБОЮ ДОВОЛЬНА
Ну как не позавидовать стрекозам, которые спариваются на лету? Мы ведем наш репортаж из кроны столетнего дуба. Здесь, подвесившись на веревках и блоках, сопряжены высоко средь ветвей Людмила Петкова с Илюшей Слепневым. Хэппининг в полном разгаре. Люда воображает себя змеею – ужасно шипит. Илья понимает, что он только кролик, но – отчасти царит в эластической пасти удава. Верх блаженства. Она – словно теплое море ферментов, вконец разлагает. Он – эротичнейший малый и очень старается. Так когда-то, наивный мальчонка с пионерскими кострами в бексайте, он таскал и таскал металлолом на школьный двор…
Уже и вечер, и все разошлись по домам, а он все таскает. На благо общества. Он один – никто не узнает, не похвалит. Втайне он продолжает свой труд, свой маленький подвиг на общее благо. Да, но в сознании тайного вклада есть своя прелесть. Ты ненормальный, – говорила мать, когда он, бывало, уже в темноте возвращался домой. Но была не в силах скрыть своего удовольствия.
Стыдно жить в роскоши и не трудиться, когда люди кругом живут плохо. Так понимает Илья Слепнев моральную проблематику любимого им Льва Толстого. А живет, в общем, сносно, хотя не может прокормить даже себя, не говоря уж о своей семье. Он живет за ее счет, как Толстой жил за счет своего имения. Он тунеядец, и ему очень стыдно – до гримас на лице – перед теми, кто сам себя кормит. Стыдно даже перед теми, кто погиб на сооружении египетских пирамид. Они корячились, камни таскали. И бесплатно. А он получает деньги за то, что сторожит медпункт в одном учреждении – семьдесят рублей в месяц. Если б отец только знал! Да, от того, что я делаю, отечеству нет никакой пользы. Правильно. Но мне-то хоть, по крайней мере, стыдно, что это так. Я хочу ее приносить. Всей душой жажду. Я воспитан этим проклятым отечеством так, что, когда вы вновь доподличаетесь до того, что приведете врага под Москву, я возьму этот ваш несчастный фаустпатрон, который к тому же еще, говорят, не стреляет, и лягу там, где мне скажут. И довольно с вас. Я не могу даже поступить иначе. Это во мне сидит, как болезнь… Понимаете? И оставьте меня! А пока мне, конечно же, стыдно, что я даром ем хлеб и не вкалываю на Колыме. Правильно – нам хлеба не надо, работу давай, нам солнца не надо… Когда ж, наконец, вы уйдете и оставите нас здесь в покое? Дай Бог, чтобы кто-то додумался, чтобы вам оставили ваши кормушки; под строжайшим условием, что вы ничего не будете делать – вредить, ставить палки в колеса. Не допускать вас ни к чему…
ВЫ ПРОСЛУШАЛИ ВОПЛЬ УГНЕТЕННОЙ В ПУСТЫНЕ ТВАРИ
Ты чего-то такой беспокойный, Илюш? Тебе кто-то обидел? Не надо. Ты плохо кушаешь. Можа недосолена? Ну а хлеб ты не возьмешь? Без хлеба ешь? У, ты какой хороший… Едок! Да-а… Андропов, кажется, мне, половчея бы был… Конечно – построже. Какая температура сегодня? Так… двадцать… двадцать три. Будет жарче. Илья! Ты мене совсем не жалеешь. Иди поцелуй своего папу. (Всхлип.) Твой папа так много пережил… Я ничего для тебе плохого не сделал. Почему ты не пишешь? Пиши мне, Илюша, не оставляй мене. Как мне одиноко, как я скучаю за тобой… Ты еще узнаешь, как сладко быть одному, когда сын подрастет и тебе бросит.
Так вы, уважаемый папа, хотите Илью контролировать? Хотите, чтоб он раз в неделю писал вам письмо? Хоть какое-нибудь, хоть формальное: жив-здоров. Очень хорошо. Замечательно. Только почему вы не можете скрыть свое чувство глубокого удовлетворения, когда Илья нездоров?.. О, ни слова – все ясно: я вижу, как глаза ваши полнят перлы страдания. Абсолютно такие же, как – помните? – нет? – а я вот запомнил ваши глаза, когда Илья сломал себе руку, пойдя в первый класс. Вы точно так же смотрели тогда куда-то вдаль своими пьяными зенками. Как будто говорили кому-то там, за горизонтом: вот видишь, я это предвидел. Еще бы!
Раньше Илюша скрывал от отца свое нездоровье, а теперь вот – стал его радовать… Получилось нечаянно. Отец говорит: ты пиши в открытке, мол, жив и здоров, а больше ничего и не надо. А мне эта сухость претит. Я не пишу по полгода, а потом, оправдываю свое молчание тем, что болел, хоть и не болел даже вовсе. Придумываю подробности… И отцу уже есть, чем отвечать: очень огорчен, что ты так сильно болен. Это плохо. Брат твой тоже по-прежнему все «резвится», то есть все продолжает пить в том же духе. Как ты теперь себе чувствуешь? – Уже лучше, но приехать пока не могу, боюсь осложнения. – Ну приедь, как оправишься. – Непременно…
Да, не всегда и поймешь эти слепневские штучки. Но вернемся на дерево.
И РАД БЕЖАТЬ, ДА НЕКУДА… УЖАСНО
За измену жене приходится слишком жестоко расплачиваться. Уже помогая слезать Люде с дерева, Илья ощутил разочарование и пустоту. Кошка драная! Мерзость какая-то, как я мог с ней… Это, наверное, совесть запустила свой ядовитый зуб в его душу и начала методично точить – появился озноб. Конечно, никто не видал наших вольных упражнений в дубовой листве, а если бы даже и видели – что же тут страшного. В толпе, как в лесу – не донесут. И дело такое житейское… Но как-то все же немного неловко. А тут еще явственный голос в вечерней прохладе: Илюша, где ты?
Ах, стоило ли и бежать из родного захолустья, если голос оттуда легко долетает ко мне!? Вот я, здесь! Я убоялся, потому что я наг, и скрылся… Кто сказал тебе, что ты наг. Да, кажется, – Полька, сестра. Вот змеюка, ей Богу. Эта… Ну, эта…
В последнее время я стал замечать, что, разговаривая с женой, например, или с сыном, иногда – когда очень волнуюсь, хочу убедить их в своей правоте, а им это как об стенку горох, – иногда в таких случаях я вдруг как бы заговариваюсь. Забываю слова. Остановишься, силясь что-то сказать: эта, ну… И вдруг в образовавшийся пустой промежуток вклинивается косноязычие отца – целые блоки, фразы и поговорки из детства. Ух ты цаца какая, барчук… Но гад!!! – ты у мене будешь бедный… И вот, продолжая вещать, удивляешься вчуже – откуда. И вдруг видишь себя как отца, ощущаешь отца в себе и раздражаешься, вспоминая, как были нелепы когда-то эти бесполезные откровения рыбьего рта. И, волнуясь все больше и больше, не находя своих слов, продолжаешь: а что ему?.. Он не знает как все достается… И, не можа в аффекте своем выразить чувства словами, – хрясть по морде!
ПАПА, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Нет, но он, кажется, никогда раньше так не говорил. Это только с годами язык его превратился в такое безумное крошево. Просто ужасно! Постепенно отец в моих гландах форменно сходит с ума. Что это – старческий маразм? Нет, скорее, по мере того, как Илюшин организм укреплялся, переходил к иному укладу жизни, переставал слушаться папиных указаний, приспособленных к сонному царству глубокой провинции, Иван Лукич начал беситься. Ему непонятно, как это можно разговориться на улице с незнакомою женщиной, а потом как-то вдруг очутиться подвешенным с ней над землей под шатром темной сочной зелени – млеть, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца на канатах и блоках… Да это тот самый дуб?! Уму непостижимо. Что скажут люди? Осудют.