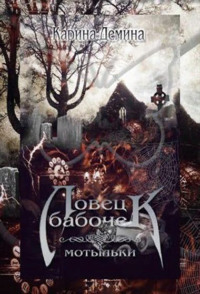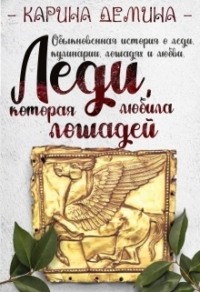Полная версия
Философия красоты
У Гальки были рыжие волосы, веснушки и девяносто пять килограмм живого веса, полный аут, ни один томимый гормонами юноша не глядел в ее сторону. Ни один, кроме Кольки Аронова, который видел не килограммы, а нечто, что позже гордо именовал «индивидуальностью». Галькина индивидуальность складывалась из веснушек, рыжих волос и огромных светло-серых глаз. Его не понимали, над ним смеялись, считали почти что сумасшедшим, но, спустя месяц… спустя месяц Галина стала первой красавицей курса, потом университета, потом… на городском конкурсе красоты они срезались, все-таки Кольке Аронову не хватило знаний и опыта Ник-Ника.
Теперь у него есть и знания, и опыт, и деньги и многое, многое другое. А, ведь эксперимент имеет шансы на успех. В этой девочке есть главный залог успеха – индивидуальность. Лицо… Это, конечно, минус. Татуировка, как у Летиции? Интересно, но этот прием он уже использовал, да и у Летиции был маленький шрам, а тут другое. Единственный выход – спрятать. Да, именно спрятать, но не совсем, это как длинная юбка с разрезом, когда все скрыто-спрятано, а в то же время будто и на виду. Маска?
А, почему бы и нет? Такого в его практике еще не случалось. Леди-маска, леди-тайна, леди-химера…
Леди-химера сидит, уткнувшись взглядом в компьютер, сидит и не догадывается, что будущее ее уже решено. Ник-Ник зажмурился, предчувствуя грядущее удовольствие. Ему нравилось создавать. Ему нравилось удивлять. Ему нравилось эпатировать.
Это будет самое удивительное из его творений!
Дело за малым, нужно, чтобы она попросила. Сама попросила. Пусть кому-то покажется странным, но Ник-Ник никому не предлагал своих услуг. Плохая примета. Вот, если она сама попросит, тогда да, тогда получится. Осталось предоставить ей такую возможность.
Узнай человека по желаниям его.
– Оксана.
– Да? – Она обернулась, и Ник-Ник вздрогнул, на это лицо не возможно глядеть без содрогания. А не переоценивает ли он собственные силы?
Ерунда, чем сложнее, тем интереснее.
За три часа до…
Стефания злилась, эта злость таилась в глубоких, словно ущелья, морщинах ее лица, в тяжелых – свинцовые тучи, полные града и молний – мешках под глазами, в тонких, похожих на выцветшие тряпочки, губах и круглом подбородке. Эта злость мешала жить, мешала думать, мешала дышать.
Эту злость следовало использовать.
В конце концов, он ничем не рискует.
– Я думал, ты погибла.
– Скажи лучше, что ты мечтал о моей гибели! – Стефания пила кофе, и, чтобы хоть как-то утихомирить гнев, комкала салфетку с монограммой Адетт. – И ты, и она, спелись за моей спиной, сговорились, думали, с рук все сойдет…
– Она и сейчас так думает.
– А ты?
– Я… Я заблуждался. – Серж приложил все усилия, чтобы голос звучал как можно печальнее. Когда-то Стефания попадалась на эту уловку. – Я страшно заблуждался, поверив ей. Она воспользовалась моим доверием, моей любовью, моим именем и состоянием.
Не совсем правда, но для Стефании в самый раз, она чересчур тупа и чересчур зла, чтобы разбираться.
– Как только деньги закончились… Их было не так много, – рассказывать, что денег не было вообще, Серж не стал, лишняя информация тяготит. Стефания слушала с интересом, даже несчастную салфетку оставила в покое.
– Так вот, когда деньги закончились, Ада вышла замуж за богатого.
– А ты? – Сочувствия в голосе Стефы не было, скорее злорадство. Впрочем, трудно ожидать другого.
– Мне выпала скромная роль брата.
– И ты согласился?
– Я любил ее.
Ее и деньги старика, у которого хватило глупости взять в жены бедную, пострадавшую от ужасов войны, девушку.
– И она клялась, что любит. Но… Она снова собирается замуж. Она снова бросает меня, но на сей раз навсегда.
– И чего ты хочешь?
– Того же, что и ты. Отомстить.
– Да? – В глазах Стефании читалось недоверие пополам с… надеждой. Значит, она ненавидит настолько, что готова рискнуть.
– Если она умрет, то…
– Мы попадем на гильотину.
Все-таки, Стефа не так глупа, как ему казалось. Правильно, именно зловещий призрак гильотины его и останавливал. Убить… он готов был убить Адетт тысячу раз, и тысячу раз отступал, кожей ощущая ледяное прикосновение лезвия. Но теперь… С появлением Стефании многое изменилось, нужно действовать быстро, пока Адетт не сообразила.
Быстро, может быть даже сегодня.
ХимераЯ тупо пялилась в монитор, пустая трата времени, в голове пустота, на душе гадко, но Ник-Ник шуршал газетой, и приходилось делать вид, будто я очень занята. Слишком занята для разговоров. Обсуждать статью? Господи, какое может быть обсуждение. Ник-Ник принадлежит другому миру, на благодатных подиумах которого пасутся стада стройных манекенщиц, в окружении фотографов, гримеров, парикмахеров и иже с ними. В том мире Аронов – король, вместо скипетра игла, а в качестве державы – голова от манекена.
Попросить его, чтобы взял? Он же король, он может, он согласится, ведь обязан мне жизнью, но смысл? Я и красота – разные полюса планеты, это как кислота и щелочь, анод и катод, яд и противоядие. Проще уж жить, как раньше, Ник-Ник уйдет и все возвратится на круги своя.
– Оксана.
– Да?
– О чем ты думаешь? – голос ласковый, как у инквизитора, который уговаривает очередную ведьму одуматься и, отринув Диавола, возвратиться в лоно Матери-Церкви. – Тебе не надоело здесь жить?
– А есть варианты?
– Я могу купить квартиру.
– Надо же, какая щедрость. Деньги некуда девать?
– Я перед тобой в долгу. – Ник-Ник сел на кровати и, поддерживая здоровой рукой простреленное плечо, пробурчал: – Если бы не эта дыра, меня бы пристрелили.
– Надо же, какая жалость. – Мне упорно хотелось с кем-нибудь поругаться.
– Не знаю, как для тебя, но для меня аргумент весомый. Или хочешь, машину подарю? Шубу? Аквариум с рыбками? А вообще, давай так: загадай желание, а я исполню.
– Любое?
– Любое.
– Хорошо, – я почувствовала дикое желание сделать гадость, значит, этот самодовольный чудак полагает, будто сумеет выполнить любое мое желание? Что ж, раз так, пусть получает. И зажмурившись от собственной смелости, я загадала:
– Сделай меня красивой!
ЯкутЛеля по паспорту звалась Ольгой, Рязиной Ольгой Станиславовной, одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года рождения. В отличие от Революции Олеговны Леля боялась всех и вся: трупа в ванной, милиции, грядущего допроса и неотвратимого, как лавина по весне, разговора с Петроградской, которая – тут и гадать нечего – велит убираться прочь. Все нехитрые мысли крупными буквами отпечатывались на заплаканном личике.
А Леля, пусть и не красавица в полном смысле слова, но очень даже симпатична. Черты правильные, вот разве нос слегка длинноват, губы тонковаты, а брови чересчур выщипаны, даже не брови, а два прилипших ко лбу мышиных хвостика. Но, наверное, так модно. В моде Эгинеев не разбирался совершенно, просто время от времени замечал, что девочки, девушки и женщины, не зависимо от внешности, особенностей фигуры и возраста, вдруг хором одевались в сверхкороткие юбчонки, или начинали испытывать коллективную любовь к разноцветным колготкам, или брюкам непонятной длины – не штаны и не шорты. Подобные "природные" явления забавляли Якута, но в трогательных мышиных хвостиках на полудетском личике Лели не было ничего забавного. Пора начинать разговор, а то она снова заплачет, уже не от жалости к погибшему Роману, а со страха.
– Вас скоро можно будет поздравить с юбилеем, Ольга Станиславовна.
– Что? – Испуганный взмах ресниц, розовые пятна на щеках становятся ярче, нижняя губа подозрительно дрожит, меж бровей залегла глубокая складка.
– Я смотрю, у вас скоро день рожденья.
– Десять дней. – Складка разглаживается, да и губа перестает дрожать.
– Двадцать лет, первый юбилей, мои поздравления.
– Спасибо.
– Где праздновать собираетесь?
– В "Маяке", это кафе такое.
– Хорошее?
– Мне нравилось. – Леля почти успокоилась. – Там, как на самом настоящем маяке, и Рома любит… любил… – Одинокая слезинка скатилась по щеке. Не дожидаясь вопроса, Леля продолжила. – Рома классный был. Что мне теперь делать – ума не приложу. Он меня на работу устроить обещал.
– Куда?
– К себе, в «л’Этуаль», знаете, сколько там модели получают?
– Нет.
– Много. – Хлюпнула носом Леля. – «л’Этуаль» – это то же самое, что Шанель во Франции, это даже лучше, потому что конкуренции нет. У Ник-Ника – самые классные модели, если бы Ромка меня устроил в «л’Этуаль», то, считай, карьера сделана. А теперь что?
– Не знаю. – Совершенно искренне ответил Эгинеев, который ну совершенно не понимал, о чем идет речь. Кто такая «л’Этуаль» и почему у нее конкуренции нет. Про шанель Якуту слышать доводилось от Верочки, испытывавшей нечто сродни благоговению ко всему французскому. Слова «Шанель», «Диор», «Гуччи» и иже с ними вызывали у Верочки острые приступы зависти ко всем счастливицам, которые могут позволить себе покупать подобные вещи, а не только вздыхать, рассматривая модные журналы. Но «л’Этуаль», про «л’Этуаль» Верочка ничего не говорила. Впрочем, Кэнчээри редко прислушивался к болтовне сестры. Нужно будет спросить. Обязательно нужно будет спросить.
– Теперь домой… – завыла Леля. – Старуха вы-ы-ы-гонит, денег не-е-е-ту, а я не хочу домой. Мне Ромка карьеру обещал. Чем я хуже? Скажите, я некрасивая?
– Что вы, вы очень привлекательная молодая девушка.
– Старая. Я уже старая для модели. Кто меня в двадцать лет возьмет? А я, между прочим, Мисс Очарование была! Первое место Скольской дали, но она – дочка мэра, хоть и уродина, а мне титул Мисс Очарование. А в Москве говорят: засунь этот титул знаешь куда?
– Без подробностей.
Но девчонку понесло, истерика перешла в фазу неконтролируемого трепа, остановить который не представлялось возможным. Леля, захлебываясь слезами и соплями, рассказывала о своей нелегкой жизни. Впрочем, ничего нового для себя Якут не узнал. Обычная история обычной провинциальной девчонки, которая решила во что бы то ни стало покорить столицу. Леля – единственная дочь довольно состоятельных по меркам провинции родителей, умная и в меру избалованная родительской любовью. Тот конкурс, в котором она получила титул Мисс Очарование, пластиковую корону и плед из верблюжьей шерсти в подарок, перевернул спокойное течение Лелиной жизни. Девушка решила стать моделью. Родители не сопротивлялись, они и вправду считали Лелю самой красивой раскрасавицей во всей России. Родители оплатили два года учебы в местной школе моделей, и Леле даже удалось поучаствовать в показах, которые в основном устраивали местные же модельеры. А после окончания школы – серебряная медаль, между прочим, и слабая попытка родителей убедить, что профессия экономиста ничуть не хуже – наступило время «Х». Леля отправилась в Москву. В модном по меркам города Ихтинска чемодане лежали немногочисленные – гардероб Леля решила обновить за счет поклонников, в скором появлении которых не сомневалась – вещи, косметика, паспорт, диплом об окончании школы моделей с присвоенным Леле званием «модель I класса» и портфолио.
Леля была уверена: стоит ей появится в столице и все модельные агентства вступят в кровавую схватку за право принять в свои ряды подобную красавицу. На самом же деле… На самом же деле в Москве она была не нужна. Ну совсем, совершенно, безнадежно не нужна. В одном месте Леле сказали, что она слишком толстая – при ее пятидесяти двух килограммах и росте метр семьдесят пять. В другом обратили внимание не чрезмерно большую грудь – вещи будут плохо сидеть. В третьем – на невзрачную внешность, дескать, нет изюминки. В четвертом отказали без объяснения причин. То же самое случилось в пятом, шестом, сто семьдесят третьем…
Наиболее удачное предложение Леля получила в фирме, которая под видом модельного агентства занималась предоставлением клиентам эскорт услуг. Здесь пришлись к месту и «лишние» килограммы, и большая грудь, и внешность, но Леля отказалась. Чтобы она да стала проституткой? В мифические эскорт услуги – все чисто, никакой пошлости, а секс сугубо по взаимному согласию – она не верила.
От злости и разочарования Леля даже поступила в университет, правда заштатный, бедный, совершенно неизвестный, зато там давали койку в общаге. И работу нашла в цветочном павильоне, платили по московским меркам немного, но, если экономить, то на жизнь хватало. Маме Леля писала пространные письма, где вдохновенно врала про совершенно иную жизнь, в которой Лелину красоту оценили по заслугам, предложили место в одной из известных компаний, и теперь… вот-вот, совсем скоро, Леля пришлет любимым родителям журнал со своей фотографией на обложке. Пригласить в гости пока не может: показы, поездки, учеба в специальной закрытой школе и…
На самом деле: комната на четырех, влажные стены, окна, из которых даже летом тянуло сквозняком, постоянно отсутствующая горячая вода, кухня с тараканами и намертво въевшимся в стены запахом жареной селедки – на этажи нелегально жили вьетнамцы – туалет, который периодически забивался и вонял на всю общагу. Зато в цветочном магазине Леля плавала в ароматах камелий, лилий, тяжелых роз и нежных голландских тюльпанов, если бы не покупатели – холеные мужчины и избалованные, капризные женщины, обращавшиеся с ней, как с прислугой – Леля полюбила бы свою работу.
Ну чем она хуже? Ничем. Не уродина, умная, образованная, с хорошим характером и хорошими же манерами, но всего-навсего продавщица цветов. Не папина дочка, не начинающая актриса, не модель, не студентка МГИМО или, на худой конец, МГУ, а продавщица цветов. На бэйджике, правда, значилось гордое «менеджер по залу», но кто читает бэйджики?
– Ну чем я хуже? – В сотый раз спросила Леля, вытирая распухший нос рукавом. – Чем хуже?
– Ничем. – В сотый же раз ответил Эгинеев. – А если перестанете плакать, станете еще лучше.
Леля кивнула, надо полагать, согласилась. Ну и слава Богу, к женским слезам Якут относился с опаской, примерно как к пробирке со штаммом бубонной чумы, ежели таковой доведется – спаси Боже от подобного счастья – попасть в руки капитана Эгинеева. И в первом, и во втором случае любое неверное – а кто знает, как верно обращаться с бубонной чумой? – действие приведет к тяжелейшим последствиям.
– Как вы познакомились с Романом?
– Обыкновенно. Встретились в какой-то тусовке, нажрались в хлам, а потом проснулись на хате у его друга. Ромка предложил пожить у него.
– Просто так взял и предложил?
– Ну… Понимаете… Он мертв, поэтому уже не имеет значения, правда?
– Что не имеет значения?
– Ну… Как бы объяснить… Рома – он не совсем нормальной ориентации, то есть, ему не девушки нравятся, а… гей, короче. Голубой, понимаете?
– Понимаю.
– Вот, а бабка его, ну, она старых порядков, догадайся она про Ромку – выгнала бы, а ему идти совсем некуда, он и предложил мне вроде как роль девушки сыграть, чисто для бабки, чтобы успокоилась, а меня к Аронову устроить пообещался.
– Кто такой Аронов?
– Аронов? – Леля откровенно удивилась, что в городе нашелся человек, который не знает, кто такой Аронов. – Ник-Ник Аронов – владелец «л’Этуали», а Ромка там одним из ведущих модельеров был, сам Ник-Ник его работами пользовался, понимаете?
– Каким образом пользовался? – Эгинеев окончательно утратил надежду разобраться в этом бедламе, который по ошибке именуют «миром высокой моды».
– Ну, обыкновенным, Ромка нарисует модель, а Ник-Ник ее потом показывает, как свою собственную. На него много таких, как Ромка, пашет, а Ник-Ник лавры загребает. Раньше-то он, конечно, крутой модельер был, но они, раскрученные, всегда так: сначала поработают, а потом других на себя заставляют пахать. – Леля вздохнула, судя по всему, она окончательно успокоилась и беседу можно продолжать без риска нарваться на очередной поток слез. С модными делами Эгинеев решил разбираться постепенно. Да и не понятно пока: было убийство или нет.
– Вы давно знакомы с Романом?
– Давно. Уже несколько месяцев.
– А поточнее.
– Ну… с июня где-то, может, раньше чуток. Это важно?
– Все важно.
– Ага, небось старуха понарассказывала тут, будто я, дрянь такая, Ромке жить мешала. Вы ее не слушайте, не смотрите, что старая, она – стерва такая, каких свет поискать! Нам с Ромкой от нее житья не было, это нельзя, то неприлично. Да ее представления о приличиях вообще в каменном веке вымерли. Вместе с мамонтами! – Выпалила Леля. – Если хотите знать, Ромка ее боялся и ненавидел.
Дневник одного безумца.
Сегодня мне хочется писать про детство, наверное, потому что именно в те годы я был счастлив. Просто счастлив безо всяких уступок, условий, оговорок, которые мешают жить. Взрослые люди не умеют радоваться жизни, вечно им чего-то не хватает, вечно они куда-то спешат. Я тоже спешу. Врач сказал, что в запасе у меня три месяца. Может, чуть больше, может, меньше, никому из нас не дано угадать день своей смерти. Зато мне повезло – я точно знаю, отчего умру. Не от случайной пули в бандитской перестрелке, как Портос, не от безнадеги и собственного безумия, как Атос – то что от него осталось, нельзя именовать человеком, это оболочка, пустая и бесполезная, а настоящий Атос давным-давно мертв. И я умру.
Именно сумрачная странница, что вот-вот явится по мою душу, заставляет меня столь остро чувствовать жизнь. Каждый день, каждый час – как откровение свыше, сам удивляюсь своей слепоте, тому, что позволял раньше тратить драгоценное время на мелкие дрязги, на ссоры, погоню за прибылью… Кому она нужна, эта прибыль. Ни детей, ни родственников, во всяком случае таких, о ком мне бы хотелось заботится. Троюродные братья, двоюродные тетки матери, полузнакомые люди, которые по странному стечению обстоятельств называют себя моими родичами. Если бы они знали… Недавно мне приснилась стая шакалов, худых, измученных и жадных, желтые глаза светились надеждой, а с клыков капала слюна. Шакалы не решались приблизится к живому человеку, шакалы ждали смерти…
Они, мои нечаянные родственники, тоже будут ждать наследства. Они уже ждут, но без особой старательности, отмеривают мне годы и плохо спят от мысли, что я могу жениться или, хуже того, стать отцом. А если бы знали о моей болезни? Счет пошел бы на дни, часы, на родственную любовь, которую они бы старались выказать один вперед другого. Вижу сочувствие на их лицах и жадную шакалью надежду в глазах.
В детстве все было намного, намного проще. Помнишь, мы сбегали с уроков на речку, купались и загорали, бродили по дворам и самой большой проблемой было предстоящее объяснение с родителями. Но и о нем мы почти не думали. Весь мир существовал для нас, и это было непередаваемо.
Вчера весь вечер гулял по городу. Не по нашему, скромному, пыльному и провинциально-уставшему от своей обыкновенности, а по Москве. Ты когда-то мечтала уехать в Москву. Я здесь живу, и Арамис тоже. Я тебе, кажется, говорил, что у нас с ним своя фирма? Мы знамениты и, чего уж там, богаты, сейчас я способен исполнить все наши детские мечты, но мечтается уже совершенно о другом.
Я хочу быть с тобой.
У Бутусова есть песня, которая так и называется "Я хочу быть с тобой", не могу ее слушать – слишком больно. Милая, милая Августа, зачем ты поступила так? Зачем ушла? Неужели не было другого выхода? Неужели не нашлось человека, которому бы ты доверила свою боль? Мне кажется, я знаю, чего ты боялась – осуждения. Для тебя всегда много значило, что подумают другие. Но неужели мы бы не справились вместе? Неужели ты полагала, будто и я отвернусь от тебя? Или я в твоем представлении был слишком ненадежной защитой?
Не знаю. Больно. Эта боль терзала меня двадцать пять лет.
Двадцать пять лет я не решался заглянуть в прошлое, опасаясь потревожить твой да и свой покой, покой вынужденный, притворный, лживый, как зеленая корка травы над трясиной, но в один прекрасный день я узнал, что болен.
Эта судьба, уставшая ждать моего пробуждения, резко толкнула в спину. Порой она бывает очень злой, но за этот поступок я не в обиде. Помнишь, Августа, ты говорила, что на судьбу нельзя сердиться? Что она ведет нас туда, куда мы сами жаждем попасть, но стесняемся признаться?
Куда же хотела попасть ты, моя маленькая Констанция? Почему, преступив однажды через сюжет Дюма, ты не разрушила его окончательно? Почему оставила за собой самую трагическую из сцен?
Глупо спрашивать, но не спросить я не могу…
Химера– Красивой? – Ник-Ник не растерялся, не удивился, не расхохотался мне в лицо, он просто спросил, точно таким же тоном, как если бы спрашивал, не желаю ли я на завтрак яичницу. Или отдаю предпочтенье обезжиренному кефиру?
– Значит, ты хочешь стать красивой?
– Да.
– Что такое красота? – Его вопрос поставил меня в тупик. Красота – это красота, либо есть, либо нет. Сама знаю, что желание невыполнимо, так зачем он мучает меня вопросами?
– Сядь. – Приказал Ник-Ник. – Ты должна знать, чего хочешь. Ты просишь красивое лицо, правильное, аккуратное, с математически выверенными чертами, с ровненьким носиком, пухлыми губами и ямочками на щеках? А глаза большие и удивленно распахнутые, так?
– Н-не знаю. – Попыталась представить себя такой, как он говорит, и не сумела.
– Не знаешь… Зато я знаю. Это – не красота, это так… иллюзия. Мода. Сегодня в моде блондинки, завтра брюнетки, послезавтра рыжие. И тысячи дурочек летят в парикмахерские, чтобы перекрасить, подстричь, нарастить, завить или же распрямить волосы. А зачем? Чтобы соответствовать моде. Не красоте, – голос Ник-Ника сотрясал стены моего жилища.
– Глупые бабочки, вылупившиеся из одного кокона, похожи друг на друга, словно отражения, они безлики, а красота, настоящая красота, не имеет права быть безликой. Настоящая красота не имеет границ, не имеет правил, она самодостаточна и недосягаема, мода – лишь бледное ее подобие, тень от тени… Ты вот хочешь стать красивой. Зачем?
– Люди… вернуться… – Слова, мысли, мои слова и мои мысли, которые я так старательно растила, выпалывая малейшие ростки сомнения, подбирала одна к одной, словно драгоценные камни для ожерелья, разбежались, оставив во рту горький привкус неуверенности.
– Люди, люди, люди! Люди ничего не понимают в красоте, люди только и умеют, что восторгаться, но восторгаются они тем, чем скажут, не решаясь на большее. Я не способен дать тебе новое лицо, к сожалению, я не бог, но…
– Понимаю. – Я и в самом деле все понимала, он не бог, и даже не ангел, впрочем, я бы согласилась и на беса, но Ник-Ник – человек, обыкновенный человек, а, значит, не способен сотворить чудо.
– Не понимаешь. – Ответил человек Ник-Ник. – Ни черта ты, девочка моя, не понимаешь. Не в моих силах дать тебе новое лицо, но… но можно сделать так, что люди увидят в тебе красоту, ту самую красоту, которой жаждут. На самом деле тебе же плевать на то, какое у тебя лицо, тебе хочется отнюдь не гладкой кожи и правильного разреза глаз. Ты жаждешь поклонения, восторга в глазах и завистливых вздохов за спиной, ты мечтаешь танцевать на чужих сердцах, сердцах самцов, что еще недавно и не поглядели бы в твою сторону. Ты душу продашь за их тупое вожделение и первое место в ряду самок, с которыми эти самые самцы хотели бы спариться. Ты ведь этого хочешь?
– А что, нельзя?
– Можно, девочка моя, нужно, без желаний нет стремлений, без стремлений нет движенья, без движенья нет жизни. Как видишь, все просто, очень просто. Одни хотят владеть миром, другие – купить новые сапоги, третьи… третьим достаточно увидеть себя на экране телевизора. Или, быть может, ты предпочитаешь журнал? Глянцевые страницы, заполоненные рекламой и полуобнаженными, а то и вовсе обнаженными, красотками. Мечта онаниста…
– Прекрати! – Жестокие слова Ник-Ника с точностью безумного хирурга уродовали мою мечту, в его исполнении она казалась… жалкой. Да, жалкой, несерьезной и пошлой.
– Нет, девочка, не прекращу. Я обещал исполнить любое твое желание, Ник-Ник умеет быть благодарным, но ты должна понимать, чего просишь.
– Уже ничего.
– Неправда. – В его голосе легкий упрек. Шоколадная крошка на белом айсберге мороженого, кусочек льда в бокале мартини и упрек в голосе Ник-Ника одинаково уместны. – Не надо стыдится, не надо лгать Ник-Нику. Итак, милая, давай проясним все до конца. Я способен дать тебе и любовь толпы, и поклонение. Ты станешь идолом, богиней этого мира, забывшего о существовании богов, недосягаемой мечтой. Тебя будут вожделеть, тебе будут подражать и тринадцатилетние глупышки, и старухи в домах престарелых, ты получишь эту страну, ибо тот, кто владеет толпой, владеет и страной, но есть одно условие.