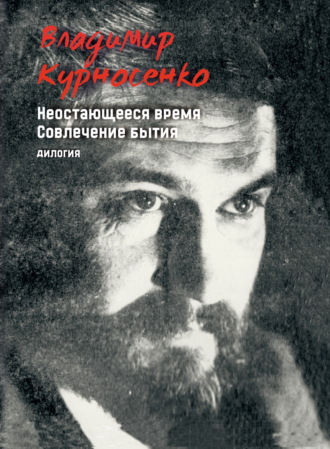
Полная версия
Неостающееся время. Совлечение бытия
Прямо-таки начал брать за горло, домогаться…
Сперва полушутейно, а там и не без подавляемого раздраженья я, скрепляясь, приоткрывал и втолковывал раз и два, и три Сене действительное положение дел и, кабы не сипящее, переводимое вослед всякой фразе дыхание в телефонной трубке, вряд ли, думаю, дотерпел бы, не поруша пускай худого нашего с ним мира…
«Никакой он не умный, – злился я, исполняясь желчи, едва не ненавидя его тускло-серый и занудисто-нахрапистый тенорок, – никакой не благородный! Тоже «ты мне, я тебе!», и все мы плодящиеся, как вши, вширь, одно подлое прикорытное сословие!»
Потом, через месяцок, я увидел его на пешеходном переходе у поликлиники шагов с восемнадцати.
У носа была все та же никуда не ушедшея синева, и дышал он, закамуфлированно приоткрыв безобразный, по-бульдожьи закушенный рот свой.
Потом я уехал.
А еще чрез год-полтора все тот же активный приятель, лечивший у Сени свои ОРЗ, оповестил меня о его смерти.
В институтской нашей группе он был вторым.
Приятель писал, что видел на кладбище Сениных родителей и что бабушки на участке в трауре, в великой поминной скорби…
«Осиротели! – плакали они будто, причитая, оставленные Сеней. – Покинул родимый! Отлетел ангел Аксенть Евсеич…»
По-приятельски, под шорох крыл отлетающего, мне предлагалось восхититься и посочувствовать тому, что столько-то лет назад я сам, к удивлению своему, открыл и обнаружил.
Что Сеня был скрыто добр, отзывчив к чужому горю и куда как более обыкновенного человечен.
Однако, увы, приятель мой, писавший письмо, был из нашего ж брата, стилизующего сочинителя, запоздало начинающий беллетрист, и он мог довольно-таки далековато зайти за ради красного словца.
Так что стоило надо всем этим еще подумать, а не рубить с плеча.
С плеча-то мы довольно понарубили, и вместе все, похоже, и по отдельности.
Колоссальная Фрося
Жизнь хороша, особенно в конце…
Арс. Тарковский
С полдюжины людей у нас в группе были деревенские, из районов, по целевым направлениям, и все, особенно поначалу, по-хорошему отличались от нас, городских.
От их обветренных уст и белозубых улыбок веяло душевным здоровьем.
Фрося пошла в сельскую школу пяти лет и поэтому была у нас по возрасту младшей. Младшей и лучшей на всем нашем курсе, самая-самая была, и нежность моя к ней оказалась на круг лишенной эротического яда, а посему сбереглась в сердце по сей день – нежность более человеческая, чем мужская…
Помню вот, как она волновалась. Делала глубокий вдох, а потом прерывисто, со словами, выговариваемыми тоненьким голоском, выдыхала. И это смотрелось очень почему-то мило, женственно… Очень смотрелось привлекательно.
«Эти девушки, – говорит Пушкин, – выросшие под яблонями и между скирдами…»
Она носила очки и была такого росту, стати и физической силы, что мы, среднеразмерная «мелюзга», отсеивались в больше-то человеческую нежность сами собой, без специальных с ее стороны отпор и реагирований…
Носить фамилию Колесниченко тоже как-то шло к ней – и угадываемыми «колесами», представлявшимися лучше жерновами, и (стоило подменить буковку) нечастым у нас на Руси качеством колоссальности.
И колос те тут пшеничный, золотой, и сама Ефросиния, женщина-колосс…
Аки монумент, аки природо-селянский триумф феминоменальный!
Она была единственной на нашем потоке, с кем по-настоящему, без скидок на пол либо судьбу, разговаривалось об изящной словесности, о беллетристике, о художественной прозе.
Она, к примеру, была тем человеком, кто сказал мне, что лучше перечитывать известное, чем авантюрно рисковать в непроверенном и новом…
– Эта ирония его! – отзывался ты, предположим, иронически об авторе «Саги о Форсайтах». – Иронист-т…
– Да! – не моргнув глазом и совершенно всерьез подтверждала это Фрося. – Ирония…
И ты разом отчего-то сдавался, чувствуя, что да, что ирония у Голсуорси более всего и хороша, что и ирония, значит, не всегда зло, что это ты по твердеющей самонадеянности твоей попросту не расчухал…
Или опять же не без усмешечки ты цитировал: «Я люблю море, суда на рейде и синие околыши морских фуражек…»
Цитировал навскидку и перевирая, а она, Афродита Ивановна, как-то эдак мило, белозубо и едва различимо-тихо заливаясь «ближним горлышком» в смехе, повторяла за тобой как ни в чем не бывало и это:
– Да. «Я люблю море, суда на рейде и…» – только уже правильно и без вранья.
И ты чувствовал снова срам насмешничающего и насмехающегося, но чувствовал и поддержку, замаскированное заединство соратника в каких-то еще более важных, чем отсутствие фальши, вещах. Чувствовал друга. Родную кровь. Родственную душу.
Большинство, как было сказано, курсовых супружеских пар сформировалось еще на картошке, в начале учебы, но нашлись и такие, кто зрел и копил необходимые к соединенью элементы мало-помалу, постепенно, из курса в курс…
Из таковых-то и оказались Фрося с Генкой Бушиловым, парнем из нашей группы, и тоже, как она, из целевых деревенских… Почти то есть.
Попервости, несмотря на высокий рост, Бушило был из вовсе уж незаметных.
Светло-русый и узкоплечий, он носил на челе еще какую-то челочку неясную, чубчик, и имел в физиономьи ту славянско-скуловую отпечатку, что при движенье душевных качеств проявляются со временем в неброскую мужскую привлекательность, а при заморозке оных так и остаются незапомнившимися, стираются из памяти, как стирается с зеркала испарина – стоит провести рукавом…
С Генкой Бушилой так бы оно впоследствии и случилось наверняка, жил-поживал бы он себе, как непроросшее семя, каб не выпало на его долю упомянутое «движение качеств».
Случилось же сие не из-за Фроси, не по причине духовных каких-то поисков альбо трагедий, а потому, что один немолодой, хроменький и чрезвычайно амбициозный силач-третьекурсник организовал в общежитском подвале нечто вроде штангистского клуба: потому что, подумав-подумав – две ступеньки вниз, одну вверх, – Бушило все-таки спустился на долгих своих ногах в его таинственное, отдающее влажной пылью недро.
Никем особо, кроме тренера-силача, не замеченный, он спускался потом в подвал вечер за вечером и там-то, при тусклом свете стоваттной электролампочки, средь запаха пота, взбряков железа и вскрикиваний, едва видимый в лице его рисунок двинулся к своему заложенному природой пределу.
Надо было видеть, как тянул Гена эту свою штангу, как дальше-больше, покачиваясь обочь покатых его плеч, сгибался подржавевший в подвальной сырости гриф, как натягивались, аки контрабасные струны, жилы на изогнутой его шее, как наливалось краской, бледнело и опять краснело его лицо…
Взят был вес, не взят ли, велико или не шибко по профессиональным меркам суммарное ее, штанги, бремя, ощущенье предела – чут-чуточку запредела, предельно-запредельной Генкиной самоотдачи – было налицо.
Ажно тревожно становилось на душе, глядючи-то, ажник страшновато.
На внешнем облике все эти преодоленья и усилия отражались весьма и весьма благоприятно, усовершенствуя и, сколь возможно, преображая Бушилу к лучшему.
Волосы у него как-то исподволь посветлели и отросли под древнерусский богатырский кружок и, когда, приняв с шампунем душ, он шел где-нибудь через часок по общежитскому непрезентабельному коридору в самовязанном «гладиаторском» свитере, они эдак светло-искристым льном рассыпались над его круглой могуче-высокой шеей.
Не прошел, выходило, годок-другой, а уж он, Генка-то, словно сквозь ухо Сивки-Бурки слазил, – столь заметно-качественно обнаружились перемены.
И не одним видом только, то бишь телесно-физически, переменился парень этот, но и душой, как это бывает, характером…
Из каких-то таких глубин и гротов засердечных выпросталось вдруг наружу спавшее до тех пор чувство достоинства, самоуважение, уверенность в себе и уверенное же недовольство соринками разного рода в глазах товарищей.
Будто теперь, когда выяснилось, что так, как это делает он, они, товарищи, ни тянуть, ни толкать, ни рвать штангу над головой не умеют, он не мог к ним относиться с прежним уважением.
Словно не токмо про штангу, но и про все прочее он ведал отныне больше, чем они.
Роман их с Фросей возник и имел бурное развитие на третьем курсе, когда Фросе сравнялось восемнадцать, а с Генкой только-только случилось его преображение.
Жившие по соседству рассказывали о каких-то однажды передвижениях и грохоте («падения шифоньера?») за стеной, в бушиловской комнате, об не на шутку тревожном предположеньи, что там открылась весна любви у четы не то динозавров, не то мамонтов…
Оба были девственниками, и он, полагаю, со всей прямолинейной решительностью скопившейся силы, ни-чтоже сумняшеся, требовал любви.
Однако же Фрося, пускай аналогичные страсти-мордасти ее и мучили, мнила про себя об отдаваньи души своей все же не так.
И не то чтоб буква была ей важнее духа событья («формалисткою» она, Фрося, не была!), но, видать, недоставало ей какой-то все же благопристойности, благочестия в высоком смысле, красоты, благословения, быть может, матери… и ее, и, скорее всего, Генкиной.
И одновременно не могла она не видеть, не чуять, что намеренья у Бушилы не мелкие, не «потребительские», не могла не чувствовать сердцем, что и сам он, какой-никакой, а честный все-таки человек.
Бушило же отказом Фроси обиделся, оскорбился во все расколосившееся самолюбье, а посему положил плюнуть и оставить романтические притязанья навсегда.
И, как говорится, пошло-поехало.
На курс младше училась девица из его же, Генкиной, деревни, девица на выданье и, как говорит народ, вся из себя.
Вы не успели открыть рот, а уж на губках подобной дамочки кривится проникшая в самую суть замысла усмешечка: ну-ну, мол, ну-ну… нам-то все уже понятно, не стоит продолжать…
По-своему, однако, тоже привлекательная или, как говорят в иных кругах, сексапильная…
О нет, с нашею Фросей она идти, ясное дело, ни в какое сравнение не могла, не шла.
В глазах у Фроси мерцало сокровище. Она несла и хранила в себе тайну жизни целиком, не усекая, не редуцируя ее в выживально-добывальный стереотип.
Фрося была божия…
У новой же Генкиной пассии, наоборот, – в сознании царствовал иной, увы, более распространенный «уровень экзистенции» – тот уровень и тип, в которых все концы и начала сведены в некий до очевидности отчетливый иероглиф, когда – говоря фигурально – бери лопату пошире да швыряй подальше, вот оно и будет всем, а тебе в особенности, хорошо и прекрасно.
Кру-у-тись!
Страдать, стыдиться чего-то, благоговеть, раскаиваться во грехах-ошибках, жалеть кого-то… Да с какой стати?!
Блаженный Августин называет эту внутреннюю программу «жизнью по плоти», а нынешнее время – «быть деловым».
По сути это выбор. Приобретенье «всего мира» ценой обмиранья души. – «А душу свою отщежу…»
Наверняка в башке у Бушилы шевелились какие-то и усомнения, да вот внимать им толком был он не в состоянии.
Он, что называется, закусил удила; отважно зажму-ря глаза, бухнулся головою в прорубь.
И где-то к интернатуре успел с молодой женой сварганить не одного, а целых двух ребятенков-пацанов.
Как целевой и по направленью, распределился он в собственный же район хирургом, и они как-то там устроили, чтоб и ей, жене, доучиться-закончить и детки чтоб при одной из сельчанок-бабушек…
Да только прошло-минуло еще несколько годков, Самсон Бушило оставил-таки усмехающуюся Далилу, уехал, смылся из родимых краев неизвестно куда и присылал оттуда бывшей жене зверские эти, в треть зарплаты, алименты.
«Гражданский подвиг!» – не совсем здесь по делу, но именно так определил поступок его знакомый читателю одногруппник наш уролог, сам в доинститутском прошлом перворазрядник по штанге в легком весе.
Не совсем по делу, но мы, остальные в группе, наблюдавшие всю историю, сообразили, что хотел он не точным этим выражением выразить.
Это был предельный, чут-чуточку запредельный для силача Бушилы вес, и еще неизвестно (сведенья, увы, о нем перестали поступать), каким боком новое это взятие отозвалось и аукнулось на всем дальнейшем.
Ну, а Фрося наша… Что ж Фрося-то… Фрося по завершении инцидента и разлучении все как-то больше помалкивала, поморщивалась и исподволь, незаметно для чужого глаза грустила.
Группу нашу, мальчиков и девочек, для удобства обученья разделили, и с Генкою они едва виделись где-нибудь в общежитской столовой.
Он, правда, по простоте душевной даже не здоровался…
Воеж притушить мощь победительной женственности, не привлекать вниманья и меньше бросаться в глаза, одевалась Фрося все скромнее, все глуше выбирала цвета…
Э-эх, думалось поневоле, глядючи-то, какая все-таки печаль, какая потеря!
Вот бы из кого гениальная-то мама… Вот бы кто Россию-то нам восстановил! Богатыря-то «для батюшки царя»… Ломоносова бы! Аксаковых! Толстого Алексея Константиновича! Тургенева!
Во ту пору я вгляделся однажды нечаянно и разглядел по ТВ лицо матери Есенина, а потом, попозже, матери Шукшина…
Я понял: всех хоть как-то стоящих отрочей рождают сюда, в мир, подлинные, вписанные в Книгу жизни женщины.
Фрося же, голубица наша, печальная и незаметная, доучилась чуть не в отличницах до последнего упора и разве что на выпускном, когда мы в своем кругу несколько выпили-закусили, ненадолго развеселилась, рассыпала льдисто-серебряную мелкозвонную задышечку, а потом, да… потом, разумеется, расплакалась.
«Мне Генку… – не чинясь больше, всхлипывала она среди нас, своих-то, – ой, не могу я! Генку мне сюда… – енку…»
И ее по-крестьянски пухловато-крупные без маникюра, но все равно женственные, все одно «беззащитные» пальцы сжимались, разжимались и повновь сжимались в безутешной горести.
Вылетел из них, понимаете ли, Феникс – Ясный Сокол, улетел, да и запропал в несносимом сердцу безвестии!
И что мы, «свои», могли с этою бедою тогда поделать?!
Не было, не разглядеть было в обозримом пейзаже хотя б отдаленно-отчасти чего-то подходящего.
Ты одна мнеростом вровень,стань же рядомс бровью брови…[17]Более, собственно, про бывшую свою однокурсницу Фросю я не знаю ничего.
Можно лишь что-то такое предполагать, фантазировать и рассуждать.
Родила ль потом она, нет ли, довольно ли «мыслила и страдала» и шибко ль уморилась душой к исходу шестого нашего десятка?..
Задача жизни, думается, все же не в заполненьи пустых пространств малодифференцированной человечьей биомассой с целью ее же, биомассы, внутри себя приятного времяпрепровождения.
Брак тоже не всезавершающая цель, а, надо полагать, только одна из форм служения, где, если все течет куда следует, душа, как и у одиночки монаха, должна высвобождаться от пленения плоти.
А потому, может быть, и с Бушилою Бог пронес. Увел, упас душу Фросину от неподъемно-надсадной тягости.
Он был из тех упорствующих, кто, занедужа по невежеству гордынею, в рвении не по разуму возмечтал справиться с миром «без монастыря».
С годами такие все больше впутываются и вязнут в липучей паутине мирской, а в зрелости лица у них обретают зрак тупой и плоской замотанности, с исподволь, точно из мешка шило, торчащим укором неизвестно кому.
Обывательски-выживальный итог, тупичок бессмыслия у проживавших «по плоти».
Фросю ж я представляю плоховато и неотчетливо, однако почему-то живой-невредимою, в райцентровском восстановленном как-нибудь храме, на службе, на воскресной литургии…
Она стоит в сторонке в притворе, а с клироса демественным распевом поют что-то такое простое, тихое…
Теплый, горьковато-душистый дымок, отгоняющий духов тьмы, обходит, обволакивая, недвижную высокую ее фигуру, и ангел-хранитель из горних метафизических пространств безмолвно смотрит, а может, и любуется на великолепно прекрасное свое чадо.
Горе луковое

У лучшего из нас, у Паши, с младых ногтей была чудная и самодеятельная, конечно, но в общем-то близкая к христианской установка: всякому, кто подойдет и встанет подле меня, пусть сделается на сердце легче!
Буквально так: всякому…
Мама у него работала библиотекаршей в доме офицеров, и нашу русскую классику, расцветшую-то бесподобным этим цветом на тысячелетнем стебле православия, Паша перечитал к тому возрасту, когда мы, остальные члены компании, только подбирались к Конан Дойлу…
После школы мы поступили в институты, двое в мед, а трое, включая Пашу, в политех, и каждый, заведши на новом месте по товарищу, привел его в прежнее сообщество.
Так в нашу компанию и попал Гоша Бугайчук. Ты не сам выбрал его себе другом, но ты его принял – хотел не хотел.
Что-то наподобие двоюродного брата – не шибко чтобы родной, но и не чужой, разумеется…
Смотрелся он, Гоша, грубоватым. Над выпирающими, как у орангутанга, надбровными дугами широкий, но низенький, несколько даже вдавленный корытцем лоб, смех – хыг-хгы-гхы… – какой-то стонуще-диковатый, да в придачу еще внезапный, страшный сваливающий с ног долой удар – некая адская помесь бокового крюка и свинга…
Прошел, однако, год-другой, и мы, узнавая Гошу сблизи, имели случаи оценить лучше, чем поначалу, его характер и качества.
Он мог, к примеру, не утрачивая доброжелательности, назвать своим именем какие-то неприятные, но полезные тебе вещи; мог на деле, а не в одной только песенке под гитару, «уйти с дороги», когда видел, что друга повело от какой-нибудь симпатизирующей ему, Гоше, дамочки…
Он был как-то без натуги, не нарочно, а природно и органически благороден.
Мать его трудилась учительницей в Грошевске, шахтерском городишке под Яминском. Гоша был у нее один.
Парни, которым посчастливилось попилить с ним в стройотряде двуручной пилой, с одинаково веселой усмешкой кивали при воспоминаньи…
Тянуть исключительно на себя, по всем известному правилу, он, Гоша, считал за роскошь, за уловку ленивых слабаков.
Большой гордынею он (хотя мог бы) не страдал, власти бугорско-паханской не искал, а более любил, видать, все-таки справедливость.
Когда при нем забраживалось что-нибудь гнусное, кто-то приступал к решенью «вопросов» с позиции силы, он – ну, разве на самый чуток чаще сугубо необходимого – пускал в ход всесокрушающий свой кулак…
Случалось, впрочем, доставалось и ему.
После стычки в колхозе с одним нашим курсовым спортсменом, членом какой-то сборной едва ли не России, тот, обиженный, по возвращении в город пришел в общагу не один.
Вслед за ним вошли и, как монументы, остановились на пороге два чудовищных габаритов малые, коих впоследствии пришлось увидеть и мне, в иных, но отчасти и аналогичных обстоятельствах…
Каким-то таинственным образом они были связаны с нашими органами правопорядка, но сами никогда не дрались, не шевелили ни бровью, ни пальцем, однако нечеловечески устрашающий вид их действовал на жертву подобно нервно-паралитическому газу, удару дубинкой…
Они именно сопровождали кого-то третьего, «обыкновенного», шустренького и злого, кто непосредственно «наводил порядок», и он-то дрался, вернее, карал по своему усмотрению, бил под столь обезоруживающе-убедительный аккомпанемент.
Спортсмен несколько раз съездил Гоше по незащищенной физиономии, проговорил нечто хлесткое и обидное в возмещенье морального ущерба, а Гоша стоял у койки, опустив руки, в драном пузырящемся на коленях трико и на глазах соседей по комнате все это терпеливо сносил…
Уже говорилось – гордыни в нем было мало.
К концу второго курса у Гоши скопились хвосты по нескольким особо занудно-зубрильным предметам, и чтобы не быть отчисленным, он взял академотпуск и ушел на сезон в поле с партией каких-то, кажется, геодезистов…
В общежитии, уезжая, он оставил любимую девушку, Валю, одну из тех отнюдь не редких представительниц слабого пола, для кого нет ни мало-малейшей загадки ни в звездном небе над нами, ни в нравственном законе внутри нас, ни, наипаче того, в непоколебимых основаньях чувству перманентной внутренней правоты.
Французский католик Анри де Монтерлан про душевно-чувственную половую любовь сказал так (если верить Венедикту Ерофееву): «Это власть, оккупация чужой души…»
Весь год разлуки Валя, ширококостная большая женщина, «продружила» с Петькой Рыжим, парнем похлипче Гоши, но тоже довольно крепким, по-петушиному франтоватым, беззлобным и, как говорится, без затей.
«Как вдвинулся, – определили его по Гошином возвращении курсовые наши созерцатели, – так, мын, и от-двинулся!..»
А Гоша, он, да… он возвратился…
Он возвратился, и впервые в жизни я увидел, чтобы, наскучавшись, так мощно, так откровенно кто-то радовался наступившей встрече.
Обветренный, похуделый, он подходил по кругу к каждому из собравшейся компании и, гхыкая, гхыыкая и хыг-гыкая, хлопал нас по плечам, обнимал и прижимал с братской нежностью к своей жесткой и сильной груди…
Наверное, он вспоминал нас всех, далеких товарищей, в какую-нибудь непогодь в подтекающей ночной палатке, и мы представлялись ему гораздо лучшими, чем пребывали в реальности.
И вот прошло, минуло чуть не в один вздох с десяток лет после института, после разлучений, после рассыпа с одной недолго общей дорожки на поотдельные тропинки судьбы…
Я жил тогда в другом городе и потихоньку, в силу обстоятельств, расставался с полюбившейся мне своим напряжением хирургией, а Паша, с коим, знаваясь с третьего класса, с девятого по одиннадцатый мы вовсе просидели за одной партой, Паша, забросив кандидатскую в антресольную кладовку у себя в коридоре, работал слесарем на тракторном заводе.
Заработок был у него ничего, горечь от предложенного шефом соавторства приосела в душе, и Паша, грубея, осваивался полегоньку в новой роли.
Я же приехал повидать дочь.
Было воскресенье, мы шли аллеею тракторозаводского сквера в поисках действующей пивной точки, и один из нас рассказал другому анекдот.
Стоят рядом два человека гор, и один продает помидоры за рубль, а другой за рубль двадцать.
«Это что же это, э? – возмущается наконец первый. – Помидоры одинаковые, мы – одинаковые, я целый день за рубль продаю, а ты за рубль двадцать!»
Подумал-подумал тогда второй и отвечает:
«Вот видишь!»
Посмеиваясь вослед и рассуждая об отношениях человека с истиной, мы двигались не спеша по аллее, и, хотя Паша трудился с некоторых пор именно на тракторном, было все-таки чудно и неясно, за каким лядом мы таскаемся здесь, в чужом несимпатичном районе, и как это так возможно, что один – за рубль, а другой – за рубль двадцать.
Мы, собственно, и гуляли-то в этом сквере первый раз в жизни.
В конце аллеи мы наткнулись на небольшую фанерную фотобудку, напоминавшую юрту.
По написанному от руки «прейскуранту», наколотому на гвоздик у двери, получить карточки сфотографировавшемуся можно было через два дня.
Некрашеную, а кой-где обклеенную какой-то дрянью будку мы прошли было и прошли бы совсем, если б из нее не вышел в черном халате хозяин и, точно не без усилия некоторого, не оказался чудовищно изменившимся, но еще узнаваемым Гошей Бугайчуком.
И мы остановились, мы оторопело стояли и с трудом, словно сдвигая в головах ржавые колеса, постигали, в чем же тут дело.
В свой черед и Гоша узнал нас; он, приблизившись, нет, не обнял, как когда-то по возвращеньи из экспедиции, а обыкновенным светским макаром пожал дружелюбно наши руки.
Они с Пашей стали обмениваться спасительными в подобных случаях фразами и словцами, я же тихою сапой дотумкивал мало-помалу, чего ж это мы так испугались.
А испугались мы оттого, что Гоша Бугайчук был Гоша Бугайчук и одновременно не он.
Шея его потоныпела и вытянулась кпереди, плечи опали, спина ссутулилась, а как-то нехорошо, пластилиново помолодевшее лицо, оскудевшее морщинами и мимикой, беспрерывно двигалось, из стороны в сторону, из стороны в сторону и, чрез два раза на третий, сверху вниз…
И еще страшнее, безнадежней было что-то другое. Третье.
Что-то надломившееся в помутнелом, подающемся от вашего взгляде, что-то утратившееся в общей «физиономьи души».
Гоша сделался слабым.
«Ну, значит, ты это… ага… – слышалось сбоку от меня, от Гоши с Пашей, – ну да… А как же… Надо-на-до…»
Меж тем из будки вышла пополневшая и прям-таки дородная ныне Валя, ведя за руку крепенькую и нарядную, робеющую чужих дядей девочку лет восьми.
– Ну, сколько тебе, придурок, говорить, что… – начала было она привычно, но, увидав нас, меня, мы были все же однокурсники, осеклась на полуслове и улыбнулась.
Без нужды уже, но Гоша бормотнул, успел в оправдание, что-де он-де подумал то, а оказалось это… На что Валя, призывая в свидетели и нас, метнула в него один из тех хладно-ядовитых «недополучивших» взглядов, в коем обнаруживал себя по-хозяйски властвующий в чужой душе оккупант, узнавался размашисто-жесткий стиль менеджмейкера с копытом…

