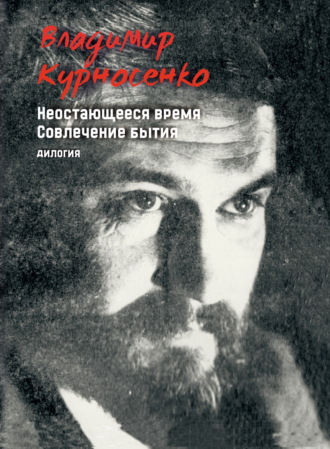
Полная версия
Неостающееся время. Совлечение бытия
Это солдаты-бойцы той дивизии, рота которой несколько лет назад беззаветно погибла в охваченных освободительным метяжом кавказских предгорьях.
Парашюты не круглые, как в наше время, а прямоугольные, сделанные из продольных, вогнутых от встречного воздуха желобков, и, судя по стремительным диагональным драйфам, парашюты эти чутки и послушны в маневре.
И хорошо так-то вот, отставя грабли и задрав плешивую голову, глядеть и заглядываться, как на загрунтованном под сине-голубое ван-гоговском небе разноцветною гроздью расцветают рукотворные эти конструкции, аккуратно и бережно доставляющие к земле цвет нашего мужества и отваги…
И ночью в такие дни чаще, случается, мне снится сон, тяжелый и трудный, о том, как из уезжающего куда-то автотранспорта ты в спешке и панике выбрасываешь через окно некое бесценное и единственное спасительное для всех сокровище – средство, лекарство, что ли… а те, кому предназначено и кто без него наверняка и стопроцентно погибнет, они почему-то не видят упавшее на дорогу – не слышат криков, а уходят и уходят, не слыша, не дрогнув и не оборотясь…
И я просыпаюсь, я вытираю сморщенное и мокрое от пота лицо ладонью, и сердце бухает и разрывается во мне от странно и страшно и, кажется мне, непоправимо упущенной возможности…
И минуты, какие-то долгие доли времени я еще лежу, вытянувшись, успокаиваясь и возвращаясь в себя.
И с безотказным эффектом утешения всякий раз вспоминаю, что есть, а я позабыл, что существует нечто совершенно и абсолютно прекрасное, спасительное и спасающее всех, кто хочет… что никуда оно не задевалось, не исчезло. А есть.
Что и среди нас, вот таких и всяких, есть выдержавшие, есть отличившие и отделившие истину от всех ее удобных подмен и подделок, не соблазнившиеся, не зарывшие свой талант, не услужившие ни Эроту, ни мамоне, ни столь убедительному их хозяину с черным копытцем…
Что есть все-таки человек, женщина, льняноволосая девочка из нашей школы, из 9 «а», а если по-нынешнему, матушка игуменья, кто как раз сейчас, в эту самую минуту, и затеплевает, может, лампадку в далекой келейке и, опустясь на сбитые, натруженные в подвизаньях и духовных ратничествах колена, она…
Сеня Согрин, ангел «Vass»
(Квадрат Малевича)
Человек прозревший сказал им в ответ:
это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
Ин. 9, 30
Фасс (по-немецки «Vass») – команда собаке, означающая «взять», «вперед», «уси»!
И кличку эту, погоняло, Сеня получил у себя в «городке МВД», будучи еще учеником начальных классов.
Городок звался «МВД», но принадлежал КГБ тоже, на паях, где, в КГБ бишь, на секуляризующую коммунистическую идею трудился в младших чинах Сенин папа; и был он, городок, составлен в собственный территориальный квадрат из серых, тяжелых, прочнейшей сталинской кладки пяти-шестиэтажек, возведенных под руководством русских начальников и инженеров пленными немцами, до войны нашими, поволжскими, а после нее вражескими, германскими…
Площадь на местности занимал он приблизительно квартал на квартал, и в шестидесятые годы подъезды его кое-где еще охранялись всамделишными оперативниками.
В детстве, в третьем классе, Сеня Согрин присаживался на лавку подле одной из детских песочниц и, всячески подзуживая, стравливал простодушно-доверчивых малышей на борьбу и драку.
И не по злобе-жестокости какой, не из тяги к пакостничеству, упаси Бог, а по собственной простоте, из особого рода азарта, предвосхищавшего грядущую охотничью страсть. Взрослым человеком он сделается заядлейшим фартовым охотником по уткам и боровой дичи.
Мы учились в школе № 1 имени Энгельса: я с 8-го класса в «б», а Сеня с 1-го – в «в».
«А» и «б» были сплошь из хорошистов и отличников, а «в» и «г» – из прочих и остальных.
В советской школьной педагогике ненадолго, но победила тогда идея «приобретенья профессии», каковой в случае непопаданья в вуз, либо попав на его заочно-вечерние отделения, ты якобы мог начать свою трудовую жизнь не с нуля.
В «в» и «г» профессией были токарь-фрезеровщик и водитель грузовика, а в «а» и «б» радиомонтажник и микробиолог-лаборант.
Это была по обыкновенью идея так себе, где безупречная логичность ума путалась с живой реальностью.
Не окажись я без института в армии, а пойди трудиться на радиозавод, все эти «приобретенные за три года знания» я заполучил бы в цеху за месяц… за неделю…
Однако, как в сущности и со всей советской властью, чтобы догадаться, что это не нужно, этому нужно было побыть.
Сеня учился на голые трояки, еле-еле, по-брумельски, по-над самой планкой «переползая» из класса в класс, а потому, когда начался ажиотаж с отбором на «радиомонтаж» и «микробиологию», он как учился в своем «в», так и продолжал, ни на какую такую утонченную селекцию в элитарность не претендуя…
Потом, когда на другой год в школу стали приходить новенькие и их брали в «г» и «в», общее распределение сил практически выправилось. Среди них попадались ребята и поинтереснее наших.
Так в одно из общешкольных чего-то празднований на суд почтенной публики был представлен десятым «в» первый и единственный за всю нашу школьную жизнь спектакль, блестяще стилизованный и интерпретированный под лубок, под любимейший когда-то в народе народный театр.
Граф, известно, графиня… Шур-амур, понятно, упрекающие реченья с раздраженьями, а из смелых режиссерских находок слямзенный из кинематографа голос за кадром.
И по ходу действия голос этот, в частности, произносит: «Тихий ангел пролетел по комнате…»
На сцену выскакнул здоровенный очкастый парень, внешне смахивавший на киношного эсэсовца, и, корча рожи, приседая и взмахивая ручищами с привязанными к ним крыльями из марли, пролетел.
Не помню хорошо, что было до и после, но здесь, в этом конкретно месте – ангела изображал Сеня, – от небывалого, почти штормового хохота актовый набитый до отказа зал раскололся, как упавший откуда-нибудь с грузовика на землю спелый арбуз.
Сеня уже тогда, в десятом классе, в узловых чертах выглядел таким, каким впоследствии закончил свои земные дни. Рост под метр восемьдесят, широкие, сутуловатые (по вертикали) плечи, несколько жирноват и на неясном носу не интеллигентские, а именно что фашистские какие-то очки…
Серенький неубедительный полуежик и эта бульдожья, выдвинувшаяся в неправильный прикус нижняя челюсть.
«По выжженной равнине, за метром метр, – пел в мальчуковом таулете «туалетный певец» наш Женя Рыбаков – идут по Украине солдаты группы «Центр»[12]…, и можно было открыть дверь, увидеть проходившего по коридору Сеню Согрина и натурально представить себе, что это за группа была, «Центр», как это она «ходит».
Разве автомат еще Сене, шмайсер, да рукава до локтей закатать.
И вряд ли, думаю, отец Сени, капитан КГБ, по ведомству, так сказать, помогал сыну поступить в медицинский.
Судя по яблоку – по «дальнейшему Сене», – яблоня-отец был по-своему до скрупулезности честный человек.
Разгадка Сениной везухи проще. На курс, на лечебный факультет, набиралось сто пятьдесят «девочек» и сто пятьдесят «мальчиков», и у девочек конкурс получался как во ВГИК или на отделение психологии философского факультета МГУ, а у нас, мальчиков, стоило заполучить как-нибудь одну четверку среди троек и, пожалте бриться, приобретай и делайся, становись носителем «самой гуманной в мире»…
Ну, а так ли это, разберешься потом…
Мы с Сеней попали в одну группу, и в одном из первых моих «рассказов» он, что греха таить, под другою фамилией давит сапожищем какую-то там деревенскую лягушку…
В действительности-то, по правде, этого, конечно, не было.
Однако же выбор Сени для подобного садистского поступка симптоматичен – я, получалось, сам был под впечатлением «киношного» Сениного типажа, глядел на него через бревно и судил по одежке.
Но давил он, Сеня, придуманную лягушку все-таки на всамделишных картофельных полях, куда нас сразу после зачисления отправили до учебы…
Это была так называемая «картошка», время зачинов едва ли не всех курсовых дружб и любовей. В одной, к примеру, группе, в восьмой, за физически и морально тяжелый этот месяц сформировалось ажник четыре брачно-супружеских союза.
У нас же народился один – у Сени Согрина и Лины Ляхович, его, Сениной, сомневающейся избранницы.
На границу Европы и Азии, в Яминск, избранница прибыла с далекой и специфической Западной Украины, чуть не Польши, в темноглазой своей, несколько носатой физиономии имея выраженье, смысл коего мог прочитываться так: «Ну хорошо, ребята… Я гляжу, у вас тут все шутки да хаханьки, оно отчасти и здорово, весело даже, но… Но когда-то ведь надо и к делу переходить! А? Или как?»
Словом, не совсем была красавица, а скорей, из «ничего себе», но с такой-то вот для юной девицы шибко взрослой озаботой.
А Сеня… он от исподволь переместившегося с одежки в самую кровь амплуа «фашиста» и смеяться-то по-человечески более не мог.
– Кха-кха-кха! – смеялся-скандировал, словно Фантомас.
Смеялся и тут же, на манер Змея Горыныча, устрашающе мотал вниз-вверх очкастою головой. Ощериваясь.
Помимо оттаскиванья корзин с картошкой к контейнеру, кроме «кха-кха-кха» (это был юмор) да еще простаиванья в приличной близости от Лининой борозды, опершись подбородком на черенок лопаты, придумать что-то было ему трудно.
Но он придумал.
В ближайший праздник – Октябрьскую революцию – позвал, абы всем якобы сдружиться и повеселиться, всю нашу группу к себе домой, а в глубине души с робко-смутным умышлением, разумеется, по поводу Лины.
Согрин папа (умели тогда делать люди его профессии!) в сей октябрьский, ноябрьский точней, вечерок как-то не запомнился, ускользнул от лишне-ненужных запоминаний, но мама, женщина телом «корпусна», в очках и с зачарованным на чем-то в себе внутренним взглядом, цитировалась и поминалась в общаге до скончания института.
Войдя с подносом в громадную уставленную польской мебелью комнатищу, где мы, сбившись кучкой, немотствовали в ожиданьи застолия, она эдак «нашенски», «понимающе» подбодрила нас.
«Вы чего ж невеселые-то, ребята? – ставя поднос с цитрусовыми на стол трапезный, вопросила она. – А может, кто из вас шутку какую приготовил?!»
Шутку действительно приготовили. И приготовил ей эту шутку, получилось, родной ее сынок.
Родители, и в особенности квартира, произвели на прагматическую Лину свое спланированное Сеней впечатление. Пооглядевшись пару-тройку годков еще, поозиравшись, она таки дала в итоге Сене свое согласие. Брак состоялся.
Блез Паскаль допускал, что, окажись нос у Клеопатры покороче, мир был бы другим.
А Лина, помимо того, сама оказалось одной-единственной и, как определяют это сексопатологи, была для Сени убегающим объектом сиречь имела всё для «безумной» и дальше-больше выпускающей метастазы страсти-опухоли.
Окажись нос Лины покороче, а жизнь Сенина житейски «посчастливее», хаживал бы нынче он по вымененной из родителевой жилплощади горнице, поглаживал неторопко пузцо али какую ни вырасти бороденку клоч-ну да и резонерствовал, рассуждал эдак с солидностию о…
Ну, хоть о семипроцентном барьере прохождения в нижнюю палату Государственной думы, о закупленных игроках и покупных матчах высшей футбольной лиги либо о силосованьи компостных масс в вырытой яме на дачном огороде…
Могло и вовсе выйти худо, неизвестно что…
Вышло же, как всегда, никем не жданное третье.
«Жениться, – среди прочего, конечно, но тоже говорили мудрые наши отичи, – всякому человеку печаль. Оженившийся человек раскается…»
Из счастливых браков по любви в чемпионской восьмой группе кое-как сберегся один, да и тот задержался в целости не христианским взаимоподдерживающим служением, а очевидным дезертирством и душевною слабостью одного из «счастливцев».
«Человеке! – советовали мудрые отичи. – Не пытай женской красоты, но пытай ума добра…»
Развод Сени с Линой совпал-подгадал к дням, когда закончился трехлетний срок отработки по распределению и когда сынок их пошел в первый класс.
Чем-то, по-видимому, безвозвратно пожертвовавшая в душе своей Лина и, полагаю, без измен оттерпевшая нежеланную близость с Сеней долгие восемь лет, заработала и заполучила таким образом сына, квартиру и положенные законом алименты, а Сеня («С детьми расставаться, кровь проливать…») – первый трансмуральный и немного отсроченный во времени инфаркт, крушенье половины, по меньшей мере, жизненных опор и возвращение в «прейскурант существования» обожаемой им охоты… Лина, как гуманист и акушер-гинеколог, не допускала его к убийству невинных божьих тварей.
Удар для Сени был нокаутирующий, смертельный и, как мне представляется нынче, на склоне лет, единственно спасительный для его заблудшей души.
Участвовал ли папа Согрин в их, Сени и Лины, постдипломном нашем распределении – и по сей день мутливая тайна для меня.
Во всяком случае, мы, те, у кого папы отдавали долг Родине по другим местам служб, чуть не поголовно, за небольшими исключениями, распределялись по ЦРБ городков и поселков области, а иные безответные отличницы и вовсе попали в мин-соцобеспечение, говоря проще, – в дома престарелых, что означало потерю сил, времени и ситуационно – стартовой установки к хоть сколько-то бы не обезьяннему врачеванию.
Сеня и Лина остались в городе. Она в женской консультации при городском роддоме, а он участковым терапевтом в поликлинике привокзального («железнодорожного») района.
Тоже, в сущности, не бог весть, конечно. Но все-таки.
Однако, что Сеня, наверное, как раз в папу, был на свой лад до щепетильности честен, обнаружилось года спустя три-четыре после злополучного развода.
Один из наших, одногруппник, «уролог и оперативный андролог», как изящно дописал он в свежесварганенную визитку, живущий и действующий смачно и ухватисто, проконсультировав в охотку подогнанного Сеней больного, со своей стороны, алаверды, по закону римского политеса («Я даю тебе, чтобы и ты дал мне!») прислал для ответной услуги своего.
От Фасса требовался всего-то больничный их поликлиники, и требовался вполне не халтурный, нормальный, не задним даже числом…
И – пожалуйста!
Сеня отослал товарища ни с чем.
Отослал с фигою и маслом. С обидой и недоумением.
Сам, разумеется, лишаясь тем сотрудничества с нужнейшим специалистом – коллегой. Навеки-навсегда.
«Как это называется-то?! – негодовал-возмущался в приватной беседе тот, коллега. – Человек идет, надеется…» И в ярящемся раздраженьи присовокуплял, что Сеня дурак, «идьет», добавляя с разгону определяющее словцо, по выраженью классиков, «не употребительное в разговоре светском».
И действительно. Прохаживаясь в белейшем, ажно голубоватом от крахмала халате и перебрасывая из-под ушных раковин, хомутиком за широкую шею красивый польский фонендоскоп, в очках, с поседелыми висками на качающейся по-удавьи голове («кха-кха-кха…»), Сеня, Аксентий Евсеевич, выглядел импозантно, более чем степенно…
Удивляло другое: не обыкновенные у врачей внушительность, не седые виски…
Ни с того, будто, ни с сего – и я имел случай вживую в сем удостовериться – у слабоголового троечника, у презираемого иными нашего тупыря нежданно-негаданно пробудилось могучее диагностическое чутье.
Сеня воивпрямь стал недурным по яминским масштабам лекарем….
И это, повторяю, вэшник, «всадник без головы», чуть не полудаун по подспудным порой моим подозрениям, тот, кто и стипендии-то себе не мог добыть из-за троек на младших курсах…
И едва ль дома, где Сеня опять жил с отцом и матерью, он после телевизора аль на утренней заре пролистывал, «чтобы быть в курсе», очередной номер «Терапии» и «Кардиологии»[13], читал какую-нито плотненькую монографию про ферментирующие корреляты и липоидные мононуклеиды, вряд ли, думал я. Вряд ли… Не таковский все-таки был парень, не тот человек.
И по «эффекту ординаторской», когда, где сидишь, в каком соку варишься, тем и сделаешься, тоже возникали сомнения…
………………………………………………………………………..
Какие «эффекты-то», думалось, у замотанных, полунищих, не имевших минутки присесть докторш, у которых и стетоскоп-то торчит из сумы рядом с каким-нибудь капустным кочаном?!
Мужчины вроде Сени, и это всем известно, редчайши в роли участковых врачей…
И мне припомнилась девушка-даун, несколько лет как читано было в каком-то мирном журнале, ходившая причащаться к одному батюшке из врачей…
Он выражал сожаление, что не фотографировал «в динамике» лик необычайной прихожанки, такие имели место преображения…
Что ж, думал я. Я-то тебе верю, пастырь добрый, батюшка! Я и сам наблюдал в читальном зале публички движенье в физиономиях годами и десятилетьями…
Но ведь приобщавшуюся Христовых Таин даун-шу меняла извнутри благомощная сила Духа Святого, Его благодать, библиотечных – длящееся напряженье душевной работы, а что вот – с трудом разгадывал я – что действовало и превращало в «фашисте», в ангеле Фассе, сыне гэбэшника… гэбэшника, еще державшего со товарищи за горло весь наш повыдутый революцьенными ветрами город, продутый и выдутый до суглинка, до выживального черного мяса, до еретической, не в добрый час подвернувшейся марксистской прелести?[14]
Что?
Что действовало-то, что превращало?
Скорбь?
В общежитии, в дни удач, в часы сданных сессий, мы пели:
Голову не нужно в медицине:Дело в основном в пенициллине…Поэтому, наверное, скорбь…
Скорбь и любовь, понимал я больше и больше, вот что действовало и что, пронизая, переустраивало его, Сенино, ослабевше-сокрушенное сердце!
По малости вполовину освобожденный от при-вяз домашней любви он волей-неволей перевел, перенаправил и переориентировал священную энергию сердца [15] на возделанье отпущенной судьбой нивы, на рабочий участок свой, на угасающих по обочинам рвущегося к комфорту прогресса одиноких старух…
«Господь посещает наше сердце скорбями, – сказал святой и праведный старец с Маросейки Алексей Мечёв, – чтобы раскрыть нам сердца других людей…»
В нашем, – усильями и его не ведающего, что творить, папы в том числе, – предельно дольнем Яминске Сеня Фасе стал пионером и предтечей бескорыстной человечности и заповеданной неизвестным ему Христом божественной любви.
* * *Кажется, так.
И прямо на наших глазах исполнялась и исполнилась мало-помалу полнота времен, истекали и истекли предвозвещенные пророками сроки.
Развалились скрепы, отвалились заклепы.
Явились рэкет, тотальное мародерство, заказные и уличные убийства.
Раскатилась, раскатав срамную губу, недобрая тетушка инфляция…
Уролог-одногруппник наш, почесывая ослабевшее волосьями темя, маракуя, выше и выше задирал голову: как, мол, к чему пришпандоривать стропила очередного этажа дачи, а у участкового привокзального района Аксентия Согрина произошел второй и опять обширнейший трансмуральный инфаркт.
Один общий знакомый, бравший у Сени по месту жительства больничные, а со мной учившийся еще до первой имени Энгельса, повел меня к нему.
По замыслу, я должен был научить Сеню правильно дышать, должен был «перестроить» вредное животно-белковое питание на полезное вегетарианское и что-то, кажется, еще, что ныне, по прошествии времени, затруднительно восстановить в памяти.
В силу обстоятельств лишенный напряженья и радостей операционной, я с несколько подозрительным энтузиазмом занимался как раз нетрадиционной медициной.
Сеня полувозлежал-полусидел на приподнятой в изголовье кровати в палате с замазанной белилами нижней частью окна; кроме притихших в уголку родителей да нас с приятелем, в ней не было более никого.
Сев на опростанный дюралевый табурет у постели, я как можно будничней попросил Сеню рассказать, что и как у него на сей раз случилось, что произошло.
– Я… это… – голос у Сени дрогнул и качнулся. – Кха…
И всегда-то по тембру неопределенный, тускленький, суконный, на сей раз он нежданно оборвался еще, дал петуха, а в узкую щель промеж «петухом» и вздрогом выскочило – и все мы его услышали в палате, – успело выскочить коротенькое детски-беспомощное рыданьице. При киношном брутально-злодейском облике Сенином вовсе какое-то нелепое, жуткое.
Родители, папа и мама, замерли и закаменели в совершенной недвижности, как две большие, ударенные пыльным мешком мыши.
Для них-то это было всё. Амба. Копец. Крах и гибель всех до единого планов, радений, иллюзий, надежд и упований.
Оборотиться и глянуть на них еще раз было страшнее, чем смотреть на самого Сеню.
И по тому чуть не религиозному благоговенью, с коим стали слушать они зазвучавший так ли иначе Сенин задышливый рассказ о себе, окончательно сделалось ясно – за умнейшего, за самого умного, за эксперта и ума-авторитета по абсолютно всем вопросам в этой семье давно не мама, как было показалось во время оно, а бесценный, каких поискать еще, сынок Сенечка, уважаемый Аксентий Евсеевич, гениальный и замечательнейший доктор, врач… и сейчас, сию-то секунду, когда он так толково, научно и исчерпывающе объяснит-поведает все, как требует научнейшая из научных наук, расскажет коллеге и другу суть дела, а тот, друг, пускай не Сеня, но тоже, несомненно, выдающийся и умный, вынесет свой вердикт, подаст небывало-невиданный еще на свете совет, Сенечка их перестанет так страшно, громко и трудно дышать, губы у него порозовеют, и жизнь, их и его жизнь, та, что так нехорошо, так пугающе зависла на едва колеблемом волоске, чудесным образом удержится, укрепится и… и продолжит дление дальше… бесконечно, всегда.
Как все переживающие за детей родители, они чувствовали и собственную пред сыном неизбывную вину.
«А интересно, – упало на ум мне, помню, несвоевременно-неуместное соображение, – читал, нет ли папа Согрин «записочку»?
Имелась в виду обнаруженная в те постперестроечные сроки «записка» предсовнаркома Ульянова-Ленина о необходимости «долбануть» по священству.
Без буржуазных розовых соплей, безо всяких «лайковых перчаток» она предлагала кому-то там в интересах рабочего класса «долбануть» по идеологическим врагам власти так, чтоб запомнилось нескольким поколеньям, дабы неповадно было более и отпала охота…
Мыслишка простая и ясная, как шмякнутое о столешницу яйцо Колумба, которое иначе и не поставишь на попа.
И взавправду потом долбанули, и шмякнули, и «запомнилось» даже нашему с Сеней поколению, и вои-впрямь неповадно стало, и «отпала охота»…
Между тем сбор анамнеза сам собою заканчивался. Сеня смолк. На отросших седых волосках по вискам его выступала испарина.
Он, по-видимому, уморился от говорения слов и дополнительного волнения.
Оставив на тумбочке что-то такое исключительно макробиотическое для новой жизни, мы с приятелем, приведшим меня, стали отпячиваться-отретировываться к порогу, и на прощанье, в последний раз, я глянул на отца институтского моего товарища.
Это был прямой жилистый человек среднего роста с жидкими и тускло-серыми, но аккуратно и строго назад зачесанными волосами[16], ни возрастом с виду, ни смыслом лица никак не годившийся в Сенины родные тятеньки.
Он был в майорском кителе, в галифе, в хромовых офицерских сапогах, и, вероятно, поэтому ступни, а заодно и кисти рук выглядели у него по-крестьянски крупными…
От неподъемного горя в нем ослабело извечное их гэбистское напряжение, и он, отец Сени, снова стал видимым.
В глубине бесцветных спрятанных глаз я не различил ничего: голый черный квадрат Малевича…
Какая уж тут записка…
Встречались мы с Сеней после, а точней сказать, заочно по телефону «контактировали», еще пару-тройку только раз.
Для нетрадиционных моих целений он подобрал на участке у себя бывшего военного летчика с геморрагическим инсультом, который в полупомраченье сознания, но молитвами беззаветно нянькавшейся с ним жены воивпрямь как будто приходил потихонечку в себя…
Потом я сам на появившийся у Сени в кабинете «новый с эбонитовыми элекродами прибор» посылал как-то свою родственницу с очаговой пневмонией….
И из-за этой родственницы, из-за милого мужика-летчика и по, увы, неосторожной своей беспечности в вопросах римского политеса я как-то разом сделался непозволительно задолжавшим Аксентию Евсеичу, а общий приятель, с которым носили мы вместе в больницу курагу с орехами, чрезвычайно, по законам рекламы, завысил реальные мои влиянья у новых, по-демократически свежеиспеченных элит.
И вышло чистой воды недоразумение, накладка по-театральному, gui pro guo.
Как-то к вечеру Сеня позвонил мне и, не слушая разъяснений, стал наводить справки о некоей – не всем доступной! – охоте по боровой якобы дичи, о неких не заповедниках чуть, про которые наплел ему на мою голову короба наш приятель по простоте сердечной…

