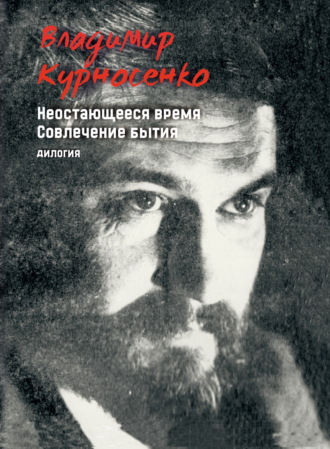
Полная версия
Неостающееся время. Совлечение бытия
Как выбросил я в окно автобуса забытый им нечаянно вещмешок с ластами и подводным ружьем, как выкликал чрез силу и стыд его имя, не услышанное за шумом улицы…
В паническом испуге выкликал, а он шел, уходил и ушел, не оглянувшись ни на съежившийся посередь пустой дороги рюкзачок, похожий на сиротеющее животное, ни на меня, орущего в полуотворенное заднее стекло удалявшегося автотранспорта…
Вспомнили и поговорили про В. А., народного академика, директорствовавшего в подобной нашей школе в Москве… О запропавшем куда-то Жене Рыбакове…
Об отбывавших неподалеку срока декабристах, и как Иван Пущин сказал, что, будь он во время дуэли в Петербурге, Пушкин остался бы жив.
– Это почему это? – удивился кореш, поднимая на меня полудетские голубые еще глаза.
– «Пуля Дантеса встретила бы мою грудь!» – процитировал я чужое высказыванье из буквы в букву.
И гость мой нахмурился. Затуманился и в грустном восхищении выдохнул в простоте сердца:
– Ах ты, Пущин…
А под утро, в дурном предчувствии, я заглянул в «гостиную», где он спал, и обнаружил, что так оно и есть, что раскладушка пуста, а голубоглазый визитер покинул дом мой, не простившись.
«Обиделся!» – мигом проник я в подоплеку, поскольку рыльце мое было в пуху.
Раззадоренный авторской иллюзией и алкоголем, я попенял вчера, что вот никто-то из друзей-товарищей не читает, никто не соблаговолит посочувствовать в трудную минуту…
Но что это-де ничего, и ладно, сказал я, но вот Александр Блок полагал (во где пуля-то…), что не поэта избирают для развлеченья себе возлежащие по обывательским лужам «читатели», а наоборот, он, поэт, «если тока поэт», своими тоскующими по раю песнями осуществляет селекцию в человецех.
Для пущайшего проятия, по-видимому, я так и выговорил – «в человецех».
«Гым-м…» – сказал теперь я наутро, в час расплаты.
Орифлему «Разметался пожар голубой…» мы отчего-то оба не стали петь на сей раз, да и про плоды-урожаи собственной селекции я как-то тоже упустил ненароком оповестить.
Одну, только одну, зато едва не чрезмерной тяжести новость довел в приезд свой мой кореш до моего сведенья… Сказал, что ненаглядная наша певунья, Оля Грановская, что она умерла…
Что слыхал вроде бы от кого-то из своих «гэшников», от девочек, что-то такое…
– Брехня, Васьк! Грубые враки! – отмел начисто и не колеблясь чужое «сведенье» Сашок-Трубачок, прилетевший ко мне спустя год из столицы нашей еще советской родины. – Издержки глухого телефона, плохих контактов и недоразумений! Жива Гранька, – успокаивал он, – ничего с ней, красавицей, не подеялось… – И, заметив, как бледнею и краснею я на его речь, улыбнулся располагающей белозубой улыбкой. – Правда, не совсем чтобы здорова… Хы! – Он, коснувшись, пошевелил перстами у виска и беззлобно хохотнул. – Чокнулась девка трошечки, ага! В монашк… Постригл… Диве…
Из автобусного репродуктора струился поднимающий дух «прибывших авиапассажиров» «Марш энтузиастов», нас с Трубецким грубо встряхивало на некомфортных задних сиденьях, и посему не все из сообщаемого я слышал отчетливо.
– В Дивеево? В монастыре? – Сердце мое сжималось и запустевало в священном ужасе от радости. Я не хотел верить ушам своим. – А разве он открылся? Он действующий?
Громадный полуторагодовалый хладно-осклизлый камень сваливался с моей души, озадаченной Олиной «смертью», и теперь, растроганный, готовый расплакаться, я уточнял нарочно мелочи и подробности.
Густо и мужественно обросший изжелта-белой, чрезвычайно как-то ему шедшей щетиной, Трубачок был доволен, что потрафил знакомому человеку.
– В Дивеевский, точно… Да! – не вполне уверенный в непривычных терминах, он утверждающе кивал, пожимал плечом и снова и снова многократно тряс головою. Он был, кажется, и не совсем протрезвевши от каких-то неведомых мне причин. – Как это… ага… пустынь… Кто-то из наших ездил прошлый год… Мать Мария… Нет, сестра Мария… Не помню… Послушанье у нее какое-то там…
Говорил он неспешно, громко и как-то по-новому солидно, придавая сообщаемому закругленный и полноправно органический вид.
Не верить было невозможно.
Несмотря на запах недоперебродившего коньяка, недопустимую дипломату небритость и только что «взятый» четырехчасовой авиаперелет, он оставался активен, бодр и, как могло показаться на первый взгляд, готов к любым самым энергичным действиям и поступкам.
Но ближе к дому различимой сделались непримечаемые в нем раньше растерянность и словно б грустящие о чем-то остановки в речи и мимике.
«Да-а, – громко говорил он то ли наблюдаемому им чему-то внутри себя, то ли теченью внешнего снаружи. – Да-а-а!..»
И вздыхал.
Абсолютно неожиданный (фантастический) визит его ощущался еще более некстати, нежели давешний корешев, был – снег на голову, кусок стекловаты, сунутый за шиворот со злым умыслом…
Мы ведь не числились тогда даже в приятелях…
На втором курсе Трубецкой женился на нашей однокласснице, девочке из одной со мной группком-пании, и это, наверное, она, Геля, предположил я с раздражением, теперь вот, когда у Трубачка что-то случилось, отправила мужа сюда без спросу и предупреж денья.
Было нам в ту пору лет по тридцать семь-тридцать восемь, Пушкина в этом возрасте убили, а я, как определил в прошлом году кореш из «г», «понаслушавшись» речей и мнений преподавателей и сокурсников в литинституте, только что соблаговолил окреститься в одной местной дышащей на ладан церквушке.
Окрестился, но в реалиях был неведающим, что творить, «праведником» с застившим горизонт бревном гордыни в глазу.
Я сам нуждался.
Полухмельной небритый Трубачок, претерпевший какое-то свое крушение ближний, был стоявший пред выбором брат, и он вправду терпел нужду в ведающем свет истины совете, а я, озлобленный, блуждавший впотьмах духовный недоносок… чем мог помочь я в его тоске и кручине?
«Да-а-а… – сказал Трубачок, когда мы вошли в подъезд, – вот тут ты, значит, и…»
И шумно выдохнул, прикивовывая сам себе.
Я, однако, решил потерпеть, проявить выдержку и не забегать поперед батьки в пекло с прогнозами, а если-де, решил я, не забегать, то суть вещей как-ни-то выявит себя, дело само подскажет, как лучше его делать.
Скоренько кое-как с дороги умывшись, сунув чресплечную нерусскую суму свою в угол горницы, где ночевал общий наш по школе сотоварищ, и с одного взгляда дипломатически угадав неуместность пира в домашних моих условиях, Трубецкой, в целях «спокойно поговорить-пообщаться», пригласил тогда меня в ресторан, в самый тут у нас дорогой и самый центральный.
В кабак, как в те годы иначе говаривалось.
Но слушать «всю эту музыку» пусть и в дорогом, и центральном, глядеть на одеревеневшие («…чтобы есть») рожи официантов, обонять запах едова и, хуже всего, платить жуткие, чужие в моем случае, деньги было на сей раз вовсе как-то невмоготу, и, сделав из нашего коридора предваряющий телефонный звонок, я повел женевского гостя на чужую и нейтральную, что называется, территорию.
Был ноябрь, и на дворе пахло свежестью – падал, вспурживаясь и вертясь, мелкий, нестрашный и обреченный таянью первый снежок…
Саша шел без головного убора, в роскошном выпущенном на грудь кашне, в белой импозантной щетине, не обращая по-европейски вниманья ни на какие погоды.
«Что берем?» – только и спросил он в том недолгом, недлительном нашем пути.
А я только и ответил – что.
Когда-то накатав полуслучаем квазибеллетристи-ческий опус («Писъжо к царице Нефертити») и почувствовав желанье послушать мненье со стороны, я дал его прочесть Геле, теперешней Сашиной жене.
Ожидая у гастронома Трубачка, я нечаянно припомнил почти смешной этот случай и вдругорядь искренно подивился ему…
Прочитав «Письмо», Ангелина помолчала, а после, покраснев и потупляясь, призналась по простоте души, что ей-то было помстилось, оно обращено к ней.
Мы были друзья-товарищи по восьмому полудетскому еще классу и только, но в Трубачковой упористой голове выкристаллизовалась на сей счет своя романтическая и не имеющая под собой почвы легенда.
Я, получалось, упустил, прозевал и позорно прошляпил по дурости лучшую на свете девушку, а теперь кусаю локти и мучусь от ревности и отчаянья, поскольку поезд безвозвратно ушел к Саше…
Я знавал и воочию видел парня, к которому ее, Гелю, недвусмысленно плотски «тянуло», но этот парень был не я и, увы, ведал я, что не Саша.
У того, помнится, были роскошные синтетические носки, как-то эдак особенно «энергично» обхватывавшие крепкие его голеностопы…
Ко мне же, ежели что-то и привлекало по былой дружбе, то чистое душевное товарищество, сердечная приязнь.
Шли и пришли мы наконец к Матвею Овчарову, к поэту и дежурному по котельной, который посещал занятия в призаводском ЛИТО, где я, простившись с общей хирургией, числился по трудовой книжке «руководителем».
Бойлерная размещалась в цокольном этаже, в цементных, приятно благовонящих влажной пылью стенах, на одной из которых висел фотопортрет Есенина с золотыми кудрями и неумело зажатой в губах трубкой.
– Мотя! – протягивая шершавую крестьянскую руку, улыбнулся во всю ширь хозяин помещенья, когда мы «разболоклись», устраиваясь вокруг старого и без скатерти, но довольно чистенького деревянного стола.
– Александр! – приветливо, но без мало-малейшего интереса ответствовал Трубачок, механически отдавая в рукопожатье белую, плотненькую и энергическую свою.
И никому из троих не нужный, не желанный «праздник» не мытьем так катаньем начался у нас.
Мысль не была высказана, не была сформулирована, а как-то вычувствовалась, сквозя в интонации, в междометиях и кратких обмолвках по близким поводам, и мысль была та, что жизнь наша окрест, буде она отчасти али всерьез интеллигентская, буде простонародная, она, сберегаясь до некоей черты промыслом Божиим, сама-то давно, с почитай второго десятилетья течет не в Христовых заповедях и даже не по старозаветным Моисеевым, а осуществляется по понятиям, где воровское «западло» и «не западло» для уточнения слуха переделано в «порядочно» и «не…».
Что все это одно долгоиграющее, самовоспроизводящееся недоразумение, всё не то, не то, чем считает себя и за что выдает, и, за вычетом двух-трех языческих идолов наподобье «Дом» и «Государство», сводится оно к животной и обреченно-абсурдной идее выжить.
И просекши мысль, столь усердно от меня ускользавшую, я тотчас с ней солидаризовался и обрадованно подхватил.
Я сказал, что «порядочно» и «не» тем паче почти бессмысленны, что пара мне знакомых жилистых старушек довернет и дотянет любое «западло» к заданно-несдвигаемому «а мне охота».
– Что за старушка? – с конфузливо-вопросительной улыбкой вскинул ко мне подбородок поэт.
– Стилизация и интерпретация! – изъяснил я с готовностью.
Мгновенье подумав, Мотя, замотав русой стриженой головою, одобряюще рассмеялся подскуливающим своим баском.
Сачок продолжал думать, грезить что-то такое про себя и, вероятно, слышал наш разговор.
Кивнув Моте на не совсем хорошую эту задумчивость, я попросил пиита прочесть что-нибудь, и он, явно через не могу, но соглашаясь, раз надо, прочел, пересилил себя.
Стихотворение было такое.
Общага или еще где-то. Мужская компания. Шум, гам, веселое возбуждение, анекдоты.
А вот уезжает, значит, раз муж в командировку…
И заканчивается так:
Мой друг молчит,Он как-то раз приехал из командировки…Однако Трубачок и тут, мне показалось, не врубился как следует, в чем дело.
– Да-а-а, – опять сказал он вежливо и нейтрально. – Да-а…
Недоставало, чтобы он добавил еще: «Бывает…»
«И все они друг за другом следят, – в параллель развивал, растаптывал я в мыслях давешнюю догадку, – все друг друга ловят на зазорах, на несоответствиях слова и дела, на нарушеньях понятий, все собою гордятся, когда блюдут, и то хвалят, то пугают друг друга…»
– Э-эх, грустно что-то, братцы! – вперив сквозь немецкие очки-стеклышки взгляд в дно опроставшегося стакана, посетовал, вздохнув, Саша.
– Гитару б сюда, что ли… Аккордеон…
Овчаров поднялся, довольно в помещенье с низким потолком крупный, ладно-стройный в серой спецовочке, и без слов принес из пристенных шкапчиков в углу двухрядную с потершимися мехами гармонь.
Не сговариваясь и не переглянувшись, мы с Трубецким зааплодировали.
Насунув на плечо ремешок, то подымая горе, то опуская непроницаемое лицо долу, Мотя, с тем отстраненным выраженьем, коим овладевают вкупе с самою игрой, исполнил на раз нечто вроде кратенького вальсо-романсового попурри.
Играл он почти без аккордов, словно на одной, запростецки-непритязательной струне, но по-хорошему чистенько, печально.
Словно глуховатым, надтреснутым домашним голосом поет тебе спроста, напевает родной и бесконечно поэтому приятный человек.
«С берез неслышен, невесо-м слета-ет желтый лист…» – это начиналось, понятно, тихо-тихохоненько, из едва различимого мглистого далека…
Потом – «Прощайте, скалистые горы».
Спервоначалу с сухой деловитостью хроники, а после со страстью, с надрывной собранностью штыковой, черноморских закушенных зубами ленточек…
Потом про Алешу…
«Из камня его гимнастерка, его гимнастерка…»
И под конец, под занавес, когда я глухо вспомнил и ожившую Олю, и заплутавшую по женскому обыкновенью в трех соснах Гелю, и своих певуний тетушек, состарившихся безбожниц:
Перебиты-поломаны крылья,Тихой злобой мне душу свело,Кокаина серебряной пыльюВсе дороги мои замело…Гармонь смолкла, и Трубачок несколько все-таки взволновался, заелозил тугими брючинами по табурету, пришел в нервное возбуждение…
Он разлил жидкости (мы, гости, пили полустаканами коньяк, а «находившийся при исполнении» Мотя из чайной кружки «Напареули»), провозгласил тост за тружеников Котла и Гармонии, а после, испросив позволенья, водрузил инструмент на колени и начал что-то мелодически наискивать и мараковать.
Воспользовавшись замином, Овчаров ушел к котлу. А я стал думать про Олю, про то, что она все-таки жива и что жизнь ее, как и раньше, таинственна для меня, но еще более замечательна…
Я был неожиданно сыт, пьян, и нос мой был в табаке.
Саша таки, как всегда, разобрался в конце концов с клавиатурой и бойкенько заиграл поднабившую мне оскомину «Вышку».
Прорезала вышка по небу лучом.Как же это вышло, что я ни при чем?Как же мне надумать компромисс?Через нашу дурость мы ра-зо-шлись…Это было про ту же все мою дурость, каковой, разумеется, не в том, так в другом, можно было нарыть-на-открывать столько, сколько было тебе по силе и по желанию…
Кажется, мы выпили еще, на посошок, а потом ушли, покинули, поблагодарив, гостеприимный невысокий кров бойлерной навсегда.
В ту же ночь подсаженным на сданный билет диким пассажиром Трубецкой сумел улететь из Толмачева в Москву.
Блага, которых мы не ценим за неприглядность их одежд…
Тогдашней супруге моей, с которой сам я про эти дела не особо-то и разговаривал, он перед прибытием заказанного по телефону такси сказал:
– Да-а… Мотя, это, конечно, хорошо… – в фигуру умолчанья уводя, как я понял, свое недоуменье экзистенциальной пробуксовкой, пожиманье плечами и базовую, никуда не подевавшуюся, не размыканную, стало быть, тоску…
Зачем-де были эти двигания-передвиганья себя?
На кой ляд он прилетал?!
Одно время из письма в письмо, из конверта в конверт (ничего боле в этих конвертах не было) он самочинно присылал из Женевы срисованные и переведенные им приемы одного из мало кому тогда известных единоборств – что-то среднее между тхэквондо и айкидо, а я – что было «извлечь» из них без спарринг-партнера и тренера? – только и делал, что складывал их стопочкой в нижний ящик письменного стола, испытывая чувство признательности сродни тому, что поднималось во мне, когда он запевал «Вышку», а я помалкивал и кивал…
Он был хороший парень, Саша, не жадный, не воображала, доброжелательный, не балаболка какой, а если обещал – сделает, был, вероятно, однолюб, и Геля наша за ним была, как это принято считать, как за каменной стеной, но… мы были из параллельных, из разных «классов», как и действительно мы были с ним – один из «а», а другой из «б»…
Наши души и жизнь дальше больше оказывались в разном времени, в иных координатах.
Помню, готовилось некое событие, мы, члены комитета, толклись кучицей в предбаннике у директорской двери В. А., и Геля, юная, светловолосая, еще здоровая и отважная от чистоты сердца, спросила у случившейся тут завучши-математички: «Ирин Кирилл-н-на, а Ирин Кирилл-н-на, в чем смысл жизни?» – вот так навскидку, с бухты-барахты, как у нас редко, но практиковалось и тогда было возможным.
И Ирина Кирилловна, не старая еще, с толстым «картофельным» носом промеж близко посаженных глазок, а потому похожая сразу на симпатичную матерую крысу и несколько изнеженную ухоженную свинью, задумалась на секундочку, а затем сказала то, что в последующем я слышал на разные лады сотни раз:
– Ну-у, Геленька… ну, как тебе сказать, у меня дочь… обязанности…
И при том что ответ был по сути верным, потому что содержал в себе очевидную долю истины, он поражал своей какой-то лукавой беспомощностью.
Это что ж, подумывалось, весь этот сложнейше-нескончаемый сыр-бор для того только и затеян на белом свете, чтобы у Иринушки нашей возросла и наела себе ряшку еще одна Иринушка, номер два, а у той чтоб своя, а у той своя?
Не маловато ли это для венца-то природы? Не обидно?
Однако директорская обитая черным дерматином дверь отворилась, ожидаемое событие началось, и раздумчивая смыслоопределяющая речь завучши-математички осталась незавершенной.
Человек становится несчастным не в наказанье, не наказуемый Богом «за грехи», а отказываясь мало-помалу от Его участия в своей жизни.
У нашего больше чем поэта есть такие строчки:
Ученый, сверстник Галилея,был Галилея не глупее.Он знал, что вертится Земля,но у него была семья…[9]Тут дорого то, что нечаянно, а потому натурально, выговаривается усамособоенная в обыденно-плотском (пошлом) сознании уверенность противонаправленности истины и семьи. Однако у них, у Гели с Сашей, в тороках, в седельных сумах не обнаруживалось и того, что дается даром и было, к примеру, у моего кореша из «г» с его востроглазой, – единой плоти…
С немилым, постылым к венцу я шла, рыдая,И слезы лилися у меня по бледному лицу…[10]Ангелина выходила замуж, как большинство женщин. Не по зову сердца, а расчисливая из головы.
Саша был отличный вариант, лучший. Он был перспективный, «материально» – за детей в будущем – можно было не тревожиться. Он был не трепло, нравился родителям… и он, самое-то важное, надолго, серьезно и глубоко (это было видно) желал ее.
Ну а что до «чувств» да тонкостей всяческих, то ведь «стерпится-слюбится»… кто ж этого не знает из поживших-то людей, из женщин в особенности!
Сказано было и впрямь хорошо и точно, но только, сочиняясь, пословица разумела брак христианский. Через смирение, через терпение… Во имя Бога слюбится, стерпится за ради Христа…
В семье же антигаллилеевской, безбожной, нашенской, когда к тому ж нету прямой телесно-душевной тяги, а есть пониманье ума, случается другое.
«Дети, в чем отличие беды и катастрофы?»
«Катастрофа, Марья Ивановна, это когда по досочке идет бычок, а она ломается под ним и…»
«Нет, деточка! Это только беда. А катастрофа – это когда лайнер с советским правительством терпит в полете внезапную аварию…
Итак, повторяем усвоение».
«Катастрофа, Марья Ивановна, это когда лайнер с советским правительством потерпел аварию, но это не беда! Беда, это когда бычок…»
Сама же Геля и рассказала как-то этот их педагогический анекдот.
Она родила двух дочерей и время от времени, когда выезжала из Швейцарии, ненадолго – для души, а не для денег – преподавала по специальности физику на английском в одной из элитных московских школ.
И слушать ее медлительно-важные, полные задушевной искренности интонации обреченным их слушать деточкам было стопудовой мукой.
…Начала курить без конца и краю, по две-три пачки сигарет в день; в охотку, чаще требуемого «клюкать» джин с тоником и, здороваясь-прощаясь с мужчинами, использовать легальность повода для поцелуя в губы.
Начала переспрашивать и щуриться и катастрофически, ужасающе фальшивить.
«Не бойтесь убивающих тело ваше, – сказано в одной очень хорошей книге, – они только то и могут, что убить, а бойтесь убивающих душу вашу, потому что…»
«Без любви это подло!» – говорено было и в одном разоблачающем культ личности кинофильме…
Чувствовалось – так ведь оно и есть: подло!
Однако в те еще плутяще-плутливые возрасты не совсем все же понятно, мнилось, почему.
Потому, можно ответить нынче, что брак, по любви ли он, не по любви, а ежели не оказался в духовном преображеньи, если не редуцирован, не вытеснен, по Сухомлинскому, животно-плотский его задел, брак такой, коли не отупит, растлевает человека…
Гасит в нем искру Божию.
И тогда с душой случается катастрофа, а лучше сказать – беда.
Геля не была предназначена жизни, в которую попала.
Попала, как и все мы, по невежеству, гордыне и «усердию не по разуму».
Душа ее, помутившаяся теперь и заплутавшая, пребывала в ней по-настоящему, я-то это знал.
От «души» она и занедужила, «занемогла».
С непокою-непростоты, от не оседающей там ни днем ни ночью мути она, я говорил, беспрерывно, сигарета от сигареты, курила, и с детства заведшийся у нее дефицит кальция катастрофически усугублялся…
В десяток-полтора лет дело дошло до остеопороза, до беспрестанных непотухающих до конца воспалений поджелудочной, до патологических жутких переломов.
– Васька! Васинька-а-а… – крикнула она однажды, не выдержав, из громадной двухуровневой их с Сашей квартирищи в Москве.
– Вася! – крикнула из кресла-каталки в трубку, взмолившись. – Вы-лечи меня!
Разбуженный, ошеломленный, злой и неизвестно на кого злящийся, я переминался у себя в коридоре за тыщу верст босиком и, мыча и мыкая, пойманный врасплох, мямлил всякую никуда не годную дребедень.
– Геля, – выговорил я в конце концов и по делу, по какой-то все-таки сути, – Геля, брось курить – вылечу!
И по тому, как мигом-враз она примолкла, как притаилась и не возобновляла более «медицинские» разговоры, сделалось очевидно, что я попал, что «отказываться от табакокуренья» в ее условиях она не может, потому что не может успокоиться, взять себя в руки и не нервничать, поелику курить – «единственная ее отдушина», и сама она как вывихнувшаяся из сустава кость… терпеть-выживать куда ни шло, но сделать усилие, понести еще хоть малейшую нагрузку… Нет!
Она стала зато «мыслить и страдать», как видел для себя задачу жизни в последние годы Пушкин.
Сидела в своем кресле, читала, что-то говорила, записывала даже в тетрадку.
Выказывала «странные» фантазии…
Совсем в духе наших когда-то школьных «безответственных» разговоров высказала как-то мечту-желание сделаться бомжом.
Скорее, думаю, она хотела каликой перехожей, как делали раньше когда-то, ходить по деревням и погостам, от монастыря к монастырю, перебиваться сухарем-подаянием, слушать рассказы встречных божьих людей да, может, заглянуть как-нибудь в обитель к одной нашей знакомой…
Позже, спустя еще сроки, она могла попросту заплакать посреди телефонного разговора, в неподходящем месте могла загулить-заскулить по-младенчески, застигнутая болью, тоненько и безнадежно.
И долго, долго и после ее смерти я все не мог узнать для своих записок «о упокоении», крещеная она, Геля, или нет, а потом все-таки узнал.
«Блаженны плачущие, ибо…»[11]
Возвратившись на родину после отлучки, я успел разлучиться и с корешом из 9 «г».
В развитье драматической беседы об изящной словесности он предложил мне не заниматься больше ерундой (не своим делом), а давай-ка-де вот лучше он устроит, поможет устроиться, сталеваром на металлургический…
И деньги хорошие для семьи, и дело верное, и вообще.
И оно б вправду было, думаю я, неплохо поди-ко, кабы те, клянусь, за кем дело свое он признавал, внушали мне надежду.
Мне не только что мало ныне нравился стих, пропетый когда-то на неизвестно чью мелодию Олей Грановской, но и, страшно сказать, иные несомненные ранее прозаические шедевры XIX века.
Неизлечимо фальшивым своим смехом Геля заразилась от одной из его героинь.
……………………………………………………………………….
Когда в травяных кочцах и кустиках, что повыше, еще шевелятся белесые волоконца тумана, и солнце, мигая и щурясь, готовит где-то у горизонта к будущему оранжевый свой глаз, я схожу с крыльца дома на окраине города на огородные нелегитимно вскопанные гряды и, случается, наблюдаю, как из брюха барражирующего старого самолетика выпрастываются личинки тренирующихся парашютистов.

