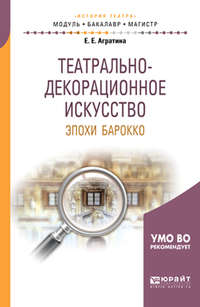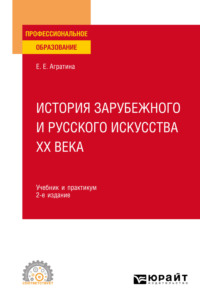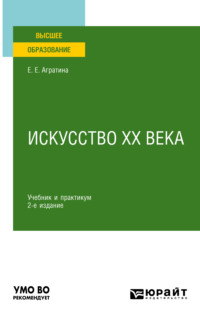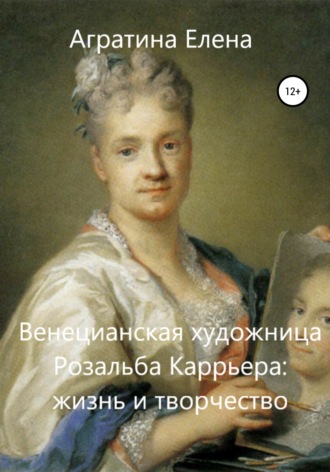 полная версия
полная версияВенецианская художница Розальба Каррьера: жизнь и творчество

Елена Агратина
Венецианская художница Розальба Каррьера: жизнь и творчество
Розальба Каррьера (1675–1757) – венецианская пастелистка, одна из первых женщин, целиком и полностью посвятивших себя искусству и получивших европейскую известность. Она была принята в Римскую, Болонскую, а затем Французскую королевскую академию живописи и скульптуры и послужила примером для других талантливых женщин-живописцев, желавших выйти на высокий профессиональный уровень и заслужить признание артистического сообщества. С именем Розальбы Каррьера связано развитие пастели, которая из графической превратилась в живописную технику и завоевала любовь многих европейских художественных школ. Прослышавшие о Розальбе знатоки искусства заказывали ей картины через венецианских друзей или специально ехали в Венецию, чтобы лично убедить художницу работать для них. Мастера из самых разных городов желали ознакомиться с ее произведениями, дабы использовать бесценный опыт венецианки в собственном творчестве. Все это день ото дня укрепляло славу той, что сумела преодолеть предрассудки своего времени, получить наименование гения и оказать влияние на развитие крупнейших талантов, таких как Морис-Кантен де Латур, Жан-Этьен Лиотар, Жан-Батист Перронно и многих других.
Биография и история творчества Розальбы в целом известны исследователям. Сохранились дневники и письма художницы, ознакомиться с которыми можно как на итальянском, так и на французском языке. Благодарить за это следует в первую очередь аббата Вианелли – современника, соотечественника и большого почитателя Розальбы. Через некоторое время после смерти портретистки он опубликовал ее парижский дневник, снабдив его комментариями и приложив краткую биографию Каррьера1. В начале XIX века была полностью опубликована переписка Розальбы с крупным знатоком искусства Пьером-Жаном Мариэттом, которая велась с 18 сентября 1722 года по 2 января 1750-го2. В XIX столетии интерес к Розальбе вообще был достаточно велик. В 1836 году Г. Раваньян поместил биографию пастелистки в книгу, посвященную выдающимся итальянцам, оставившим свой след в науке, литературе или изобразительном искусстве3. В 1865 году французский исследователь А. Сенсье, воспользовавшись трудом Вианелли, перевел дневники Розальбы на свой родной язык, значительно расширил комментарии, сделал биографию более развернутой, а также собрал воедино все известные ему документы, связанные с жизнью и творчеством художницы4. Кроме того, имя Розальбы постоянно встречается в каталогах и путеводителях по галереям5. На рубеже XIX–XX веков упоминания о Розальбе встречаются все чаще, а ее творчество становится объектом постоянного научного интереса. Среди наиболее увлеченных исследователей было бы справедливо назвать В. Маламани, издавшего не только несколько статей, но и небольшое монографическое исследование6.
Во второй и третьей четверти XX столетия в Европе появилось несколько очерков атрибуционного характера7. Жизнеописание портретистки излагается во вступительной статье к альбому Rosalba Carriera, вышедшему в Милане в 1965 году в серии Maestri del colore8. На протяжении всего прошлого столетия Розальба упоминалась во всех сборных монографиях, посвященных женщинам в искусстве9. Относительно недавно вышедших статей насчитывается около двадцати10. Самой выдающейся западноевропейской исследовательницей творчества Розальбы Каррьера стала Бернардина Сани. Ей принадлежат весьма основательные труды, посвященные венецианской пастелистке. Первая книга Б. Сани вышла в 1985 году. Она называлась Rosalba Carriera. Lettere, Diari, Frammenti (Firenze, 1985) и по сути являлась сборником документов, связанных с именем художницы. Три года спустя была создана монография о Розальбе того же автора11. Второе издание этой работы, исправленное и дополненное, появилось в 2007 году. Каталог, составляющий значительную часть данного труда, содержит все несомненные произведения пастелистки, известные на данный момент, а также те, что приписываются ей. Б. Сани явилась и автором нескольких статей, темой которых стали отдельные произведения Розальбы и история техники пастели12.
Отечественные исследователи прошлого и настоящего столетий, напротив, не проявляли интереса к венецианской художнице. Одна статья вышла в начале XX столетия. В журнале «Старые годы» за октябрь-декабрь 1916 года была опубликована небольшая работа П.П. Вейнера под названием «Розальба Каррьера и пастели Гатчинского дворца»13. Несмотря на заявленную проблематику, больше всего внимания автор уделяет биографии художницы.
Создатели более поздних общих трудов, посвященных итальянскому искусству XVIII века, склонны были забывать о Розальбе Каррьера как о крупнейшем мастере рококо в Италии. Вот что читаем в книге А.М. Кантора 1977 года: «Стиль рококо в Италии не получил широкого распространения. Он может быть отмечен в прикладном искусстве, в некоторых случаях – в чрезвычайно изобретательном и сложном декорировании стен интерьера, временами он прорывается, около середины столетия, в творчестве Тьеполо и в парадном портрете»14. Розальба, работавшая как миниатюристка и пастелистка, более других итальянских мастеров воплощала в своих произведениях рокайльную стилистику, однако о ней нет даже упоминания.
Из современных трудов можно отметить книгу Е. Федотовой15, где творчеству Розальбы уделяется некоторое внимание, однако специфика исследования не позволила рассмотреть отдельные работы художницы достаточно подробно.
Отсутствие в отечественном искусствознании сколько-нибудь значительного труда, посвященного Розальбе Каррьера, и подтолкнуло нас к тому, чтобы, опираясь на многочисленные западноевропейские источники и исследования, реконструировать биографию художницы и определить ее место в европейской художественной среде того времени.
Родилась Розальба Каррьера около 1675 года. А. Сенсье указывает на то, что эта дата не может считаться абсолютно точной, поскольку в 1757 году, ставшем годом смерти портретистки, ее близкий друг Антонио-Мария Дзанетти напишет П.-Ж. Мариэтту, что Розальба умерла в возрасте 84 лет. Если это не ошибка, то возможно, что художница родилась не в 1675-м, а в 1673 году. А вот Анджела Пеллегрини, сестра Розальбы, также в письме Мариэтту утверждает, что незадолго до смерти Розальбе исполнилось 86 лет. Поверив этому свидетельству, придется признать годом рождения портретистки 1671-й. Это, впрочем, маловероятно, поскольку аббат Вианелли видел в родном городе Розальбы приходские книги церкви Сан-Базилио. Там сказано, что отец художницы Aндреа Каррьера де Константино, родившийся 4 марта 1645 года и умерший 1 апреля 1719-го, женился на Анджеле Форрести 25 октября 1671 года. Сенсье же ссылается на венецианские архивы, где, как он утверждает, сохранился акт о рождении Розальбы 7 октября 1675 года16.
Хотя традиционно Розальбу считают венецианкой, она появилась на свет в Кьодже – маленьком городке недалеко от Венеции. Кьоджа была родиной отца Розальбы, и семья некоторое время жила там. Отец художницы был приказчиком, но, возможно, имел склонность к рисунку и живописи. Творческие способности могли перейти к девочке и от матери. Альба-Анджела Каррьера, урожденная Форрести, прекрасно вышивала шелками и золотом и в трудные времена зарабатывала этим ремеслом, помогая содержать семью. Многое об атмосфере, в которой росла Розальба, можно понять, если обратиться к истории и культуре ее родного города. Красочное описание его оставил Павел Муратов: «Кьоджа, вторая столица венецианской лагуны, первенствует среди этих поселений рыбаков и мореходов. Почти все сообщение былой Венеции с югом Италии и с заморскими владениями Республики шло некогда через Кьоджу. В восемнадцатом веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов. Но рядом с этой эфемерной Кьоджей сеттеченто пребывала другая, провинциальная и патриархальная, извечно тихая рыбачья и нищенская, которую вспоминает в своих мемуарах более степенный Гольдони.
“Кьоджа, – рассказывает он, – это город, находящийся в восьми лигах от Венеции и так же, как она, выстроенный на сваях. Там насчитывается сорок тысяч жителей всякого рода, рыбаков, мореплавателей, женщин, делающих кружева и позументы, коих производство здесь, и лишь весьма малая часть этого населения не принадлежит к числу простого народа. Все обитатели городка делятся на два сословия: богатых и бедных. Все, кто носит парик и плащ, принадлежат к числу богатых, те же, у кого есть только шапка на голове и на плечах куртка, считаются бедными, и сплошь и рядом у этих последних бывает раза в четыре больше денег, нежели у первых…”»17.
Очевидно, фамилия Каррьера принадлежала к «богатым». И хотя в семье было очень мало денег, детям, Розальбе, Анджеле и Джованне, дали достойное воспитание и образование. Имена их учителей нам неизвестны, но все девушки хорошо писали по-французски, сочиняли стихи, а Анджела к тому же была замечательной музыкантшей, так что даже получила некоторую известность при дворе в Дюссельдорфе, где жила какое-то время с мужем – художником Антонио Пеллегрини, с которым сочеталась браком в ранней юности. Анджела имела склонность к живописи и вполне могла бы стать неплохой художницей, однако всегда довольствовалась ролью помощницы – сначала сестры, затем мужа.
Джованна, или, как называли ее близкие, Джованина не сумела создать собственную семью и постоянно жила с Розальбой. Джованна стала преданной компаньонкой сестры и ее незаменимым ассистентом. Она помогала ей в работе, делала копии с ее произведений.
Поскольку семья почти всегда находилась в затруднительном финансовом положении, и матери девочек приходилось изготавливать на заказ кружева и вышивки, Розальба, Анджела и Джованна делали рисунки для ее работ, создавая оригинальные модели, которые скоро начали пользоваться популярностью у знатных заказчиц. Как утверждает Б. Сани, несколько подобных рисунков хранится в коллекции Вианелли в Кьодже. Уже упомянутый нами аббат Вианелли получил в дар от наследника Розальбы господина Педротти ее письма, дневники, записки и альбом рисунков, теперь, к несчастью, утраченный. Однако несколько листов – неизвестно, из этого ли альбома – сохранились и были доступны Б. Сани. Она пишет, что эти изображения цветов больше напоминают зарисовки для гербария, чем эскизы для вышивок18.
Исключительные способности юной Розальбы к рисованию были замечены другом семьи аббатом Рамелли. Он высоко ставил работы итальянских миниатюристов, сам работал в этом жанре и склонил к нему начинающую художницу. Она стала создавать миниатюры для табакерок и медальонов, заказы на которые поступали бесперебойно. Как пишет Сенсье, в это время «в Европе возникла новая мода: праздновала победу Империя табака; это зелье покорило воображение всех и каждого, а изящно украшенная табакерка стала необходима в любой хорошей компании»19. Склонность к изяществу и вкус к элегантным предметам роскоши были свойственны Розальбе. Она, возможно через аббата Рамелли, обратилась за профессиональными советами к Жану Стева – французскому миниатюристу, жившему тогда в Венеции. С 1698-го по 1703 год Розальба, видимо, занималась только миниатюрой. Судя по всему, особенной популярностью у заказчиков пользовались портреты, а также композиции, подобные «Девушке с голубем», которую Розальба несколько раз повторила. Именно за эту работу художница в 1705 году получит звание академика. К 1703 году относятся ее первые пастели. Среди учителей Каррьера называют сразу нескольких живописцев: Джузеппе Дьямантини, Антонио Балестра и Пьетро Либери. Один из итальянских авторов пишет: «Постоянное тесное общение с Джузеппе Дьямантини должно было сформировать первую манеру Розальбы, по школьному правильную и старательную; которая довольно скоро преобразовалась в более живую и непосредственную под влиянием другого учителя Каррьера – Антонио Балестра, который привез из Рима, где побывал около 1690 года, не только высокое мастерство и нежность кисти, но изысканную грацию Корреджо и любовь к изящному декоративизму»20.
П.П. Вейнер в своей статье цитирует отрывок из записок Мариэтта, где говорится о сходстве манер Розальбы Каррьера и Пьетро Либери: «Я нахожу, что в изображении голов (особенно женских) мадемуазель Розальба многое переняла у Пьетро Либери, зачастую перед нами оказываются те же характеры, те же черты, особенно близко изображение губ; с той только разницей, что головы Розальбы отличаются куда лучшим колоритом, чем произведения Либери, они свежее и живее. Их чудесные краски заставляют забыть об их не совсем правильном рисунке, – в этом Розальба бывает очень небрежна, – но, как и у Корреджо, у Розальбы неправильности проистекают от артистичности манеры и поэтому простительны. Тот, кто вложил кисть в руку Розальбы, был либо учеником, либо большим почитателем Либери; когда мадемуазель Розальба лишь входила в мир живописи, ее неведомый учитель должен был предложить ей произведения Либери для копирования; а поскольку не так легко преодолеть манеру, сформировавшуюся в годы ученичества, нет ничего удивительного, что влияние Либери чувствуется в произведениях Розальбы на протяжении всей ее жизни»21. Сенсье пишет, будто про этого же мастера говорили, что он «заимствовал рисунок Леонардо, композицию Рафаэля, колорит Тициана и грацию Корреджо» и эклектизм его манеры имел успех. Этот же источник подтверждает, что Розальба копировала произведения Либери, «по молодости не ощущая всей их искусственности», и что техника пастели позволяла ей лучше понять и научиться использовать его приемы22.
Вполне законно назвать среди учителей Розальбы и Джованни-Антонио Пеллегрини – мужа ее сестры Анджелы. Между Розальбой и ее зятем всегда существовали теплые братские отношения, они переписывались, гостили друг у друга и часто взаимно хлопотали о заказах. Е.Д. Федотова в книге «Венеция. Живопись эпохи Просвещения» указывает еще одного возможного учителя Розальбы – шотландца Кристиана Коля23, а П.П. Вейнер утверждает, что именно этот человек помог ей войти в Академию Св. Луки в Риме, и это стало важнейшим событием в жизни художницы24. Он же чуть раньше пересылал ей из Рима пастель и бумагу25.
Директором упомянутой Академии был в то время Карло Моратта. На звание академика Розальба, которой было тогда около тридцати лет, представила две работы: автопортрет и миниатюру «Девушка с голубем». 27 сентября 1705 года звание было ей присвоено. Короткое время спустя ее приняла и Академия Клементина в Болонье.
В это время Розальба уже много работала пастелью. Нельзя, конечно, утверждать, что именно Каррьера первой превратила пастель в живописную технику, но, по крайней мере, лишь в ее исполнении новая манера писать цветными мелками стала столь популярна и привлекла такое внимание заказчиков, будь то итальянских или французских. В доказательство того, что пастель была известна задолго до Розальбы, многие исследователи приводят знаменитую цитату из книги Роже де Пиля «Основы живописного мастерства (Le premier Elément de la peinture pratique)» (1684): «Пастель – техника чрезвычайно удобная; Вы можете оставить работу и снова приняться за нее, когда Вам заблагорассудится, пастель не требует такого упорства и такого усердия, как миниатюра, работы пастелью больше по размеру и быстрее пишутся. В этой технике находят ту же простоту, что и в живописи маслом, однако пастель не имеет недостатков последней: при работе пастелью не бывает столько грязи. И, наконец, эта техника не требует такого внимания к цвету, потому что краски не смешиваются между собой, как это бывает в масляной живописи, и не изменяются, будучи положены на бумагу»26. Все это вполне справедливо, но техника эта, как верно отмечает П.П. Вейнер, была в конце XVII столетия лишь развлечением, а серьезные мастера обратились к ней только в начале XVIII века, то есть тогда же, когда и Розальба, и даже несколько позже, чем она. Крупнейшие мастера пастельной живописи Лиотар, Латур, Перронно лишь начинали творческий путь, когда в 1720 году Розальба приехала в Париж. Первый из упомянутых художников еще жил в Женеве и не был известен никому в Париже, куда судьба приведет его только в 1723 году. Латуру было всего пятнадцать лет, и он проходил обучение в мастерской Жана-Жакоба Споэде. Можно с большой долей уверенности говорить о влиянии на него творчества Розальбы Каррьера, но вот обратное воздействие маловероятно. Перронно же, родившемуся в 1715 году, было всего пять лет.
Однако это не значит, что другие французские мастера не вдохновляли талантливую венецианку. Имеются свидетельства того, что импульсы к работе пастелью исходили именно из Франции. В этом увлечении было необычайно много французского, начиная с рокайльной стилистики и заканчивая техническими тонкостями. В письме от 26 апреля 1718 года, адресованном аббату Казотти, художница писала: «Первые пастельные карандаши, которые я видела, были из Фландрии, очень хороших цветов, но слишком твердые, так что они царапали бумагу. После этого я попробовала пастель из Рима, но успех был еще меньшим, и, наконец, я нашла французские мелки, которые были значительно лучше всех других, поэтому я заказала для себя полный ассортимент […] Эта пастель, как светлых, так и темных тонов, ложится на бумагу удивительно легко – свидетельство того, что у французов есть свой особый способ изготовления мелков»27.
Вероятно, если французы изготавливали лучшую в Европе пастель, то они умели и пользоваться ею. Мастером, которому во многом принадлежит честь открытия новой техники, был Робер Нантёй. О том, что живопись пастелью рассматривалась им как определенная самостоятельная система, живущая по своим законам, свидетельствуют записки итальянского ученика Нантёя, флорентийца Доменико Темпести. Он писал, что у его учителя было восемь ящичков, где он в особом порядке держал пастель, разделенную на восемь групп по цветам. Нантёй работал в своей мастерской и всегда держал в порядке все материалы. Когда приходил тот, кто должен был портретироваться, Нантёй внимательно рассматривал его, разговаривал с ним, осмысливая идею, которая соотносилась бы с данным обликом, все то красивое и уродливое, что в нем было, продумывая, как лучше передать сходство, и какая поза была бы подходящей28.
Б. Сани пишет, что к моменту приезда Розальбы в Париж эта система была в ходу. К тому же Нантёй был очень известен в Италии, имел итальянских учеников, таких как уже упомянутый Доменико Темпести, с которым Розальба поддерживала переписку еще до приезда в Париж и от которого могла почерпнуть секреты мастерства.
Однако заслуги Розальбы лежат не только в области пастели. Мелки были новостью, и хорошее художественное образование предполагало владение техникой масляной живописи, с которой Розальба, видимо, познакомилась еще в мастерской Дьямантини. Сенсье пишет, будто в Венеции восхищались деликатностью ее мазка и переливчатостью колорита29. Долгое время среди исследователей творчества Розальбы считалось, что техника масла была ей практически недоступна. Однако это очень маловероятно, особенно если учитывать, что речь идет о венецианке. Масляная живопись всегда занимала значительное место в Венеции, где из-за влажного климата плохо сохранялись фресковые росписи и их нередко заменяли холстами. Именно в Венеции впервые оценили переливчатость масляных красок, преодолели локальный колорит и перешли к тональному. «Краска освобождается от своих, так сказать, химических свойств, перестает быть пигментом, обозначением и делается изображением»30.
Маслом работали в самых разных жанрах. Создавалось много парадных портретов. Известностью пользовался Витторе Гисланди, или, как его называли в монашестве, фра Гальгарио. Многие его образы обладают барочной импозантностью, виртуозно прописаны детали, что будет характерно и для Розальбы. «В портретах Гисланди черный или коричневый фон оттеняет декоративное разнообразие цвета в написании тканей костюмов дам и кавалеров, их треуголок, тюрбанов, камзолов, атласных плащей, с расшитой золотыми нитями отделкой, великолепных белоснежных локонов…»31. Возможно, молодая художница изучала творчество Гисланди, копировала его работы целиком либо их отдельные фрагменты. Фра Гальгарио да еще и саму Розальбу принято считать крупнейшими мастерами портретной живописи в Италии того времени.
Современниками Розальбы были два известных венецианских художника, работавших в области барочной монументальной живописи, – Джованни-Баттиста Пьяцетта и Себастьяно Риччи. Они особенно повлияли на сложение творческой индивидуальности Джованни-Баттиста Тьеполо. Розальбу и Тьеполо нередко пытались сопоставлять, хотя в то время, когда Каррьера стала академиком Римской и Болонской академий, Тьеполо было всего девять лет. Тем не менее, постоянно отмечается сходство их манер, подтвержденное также некоторой путаницей в атрибуции отдельных произведений. К таковым относится портрет Тьеполо кисти Розальбы, долгое время считавшийся автопортретом. Итальянский исследователь П. Скарпа посвятил вопросу авторства этой работы отдельную статью. Против того, чтобы приписать портрет Розальбе, говорило то, что она была в первую очередь пастелисткой и, как считалось, слабо владела техникой масляной живописи. В опровержение этого общепринятого мнения Скарпа приводит цитату из письма художника Николаса Влёйгельса, который, отсылая Розальбе некий портрет, отмечает: «Мадам, вы можете, если таково Ваше желание, поправить в портрете те части, которые покажутся Вам наименее удачными; Вы в достаточной мере владеете техникой масляной живописи, дабы исправлять подобные произведения»32. По мнению П. Скарпа, этого свидетельства вполне достаточно, чтобы не сомневаться в умении Розальбы писать маслом. При этом он отмечает, что масляная техника в упомянутом портрете Тьеполо такова, что легко выдает руку художника, привыкшего к пастели: высветления с освещенной стороны лица производятся не последовательным наложением все более разбеленных слоев краски, а тонкими штрихами. С теневой стороны щека и шея обведены толстой темной линией – так художник-график мог бы очертить контур с помощью угольного карандаша. Выбор цветовой гаммы также, по мнению Скарпа, подсказан опытом мастера в области пастельной живописи и стилистикой рококо. Скарпа отмечает и датировку портрета 1726 годом. Он пишет, что как раз в это время, по возвращении Розальбы из Парижа, ее техника приобрела маэстрию и законченность, свойственные данному произведению. Интересен этот портрет не только стилевыми и техническими особенностями, но и как свидетельство общения между молодым талантливым мастером, каковым являлся Тьеполо, и прославленной венецианской пастелисткой.
Уже в начале XVIII века Розальба приобрела известность в городе на лагуне. Царящую здесь атмосферу итальянские историки искусства определяют как «elegante feminismo di Venezia». Действительно, женщины здесь часто занимались деятельностью, к которой в других городах и странах считали пригодными только мужчин. Среди венецианок были прекрасные скрипачки и капельмейстеры, притягивали их и изобразительные искусства. Поэтому художнице не пришлось пробиваться сквозь слишком уж прочный заслон предрассудков – ее талант сразу вызвал восхищение заказчиков и уважение коллег. О том, какая атмосфера царила в Венеции, можно узнать из следующего отрывка: «XVIII век был веком музыки, и ни один из городов Европы и даже Италии не мог сравниться тогда с Венецией по музыкальности. Одним из самых замечательных композиторов того времени был венецианский патриций Марчелло. Венеция превратила четыре женских монастыря в превосходно поставленные музыкальные школы, и слово «консерватория», обозначающее собственно приют, сделалось с тех пор нарицательным именем для всякой музыкальной академии. Во главе этих консерваторий стояли лучшие музыканты эпохи: Доменико Скарлатти, Гассе, Порпора, Иомелли, Галуппи. На всех, кто слышал тогда пение у “Инкурабили” или слышал у “Мендиканти” исполнение оркестра, состоявшего исключительно из девушек и девочек, одетых в белые платья с гранатовыми цветами в волосах, эти концерты производили неизгладимое впечатление»33. Муратов утверждает, что среди восхищающихся венецианскими музыкантшами были Гёте и Руссо. Исследователь истории музыки П. Барбье также писал, что «уже в первой половине XVIII века настал час славы для оспедали, где были воспитаны лучшие музыкантши и певицы Италии»34. К женщинам-художницам общество Серениссимы, видимо, также благоволило.
Вот что еще читаем о Венеции века Просвещения: «Основной вклад в итальянское искусство XVIII века сделала Венеция. Только здесь работали художники, искусство которых по своей живописной силе и по значению для Европы XVIII века может быть поставлено на один уровень с искусством Ватто, Шардена, Гейнсборо […] Венеция XVIII века – крупнейший центр музыкальной и театральной жизни Европы, центр книгопечатания и производства предметов прикладного искусства.