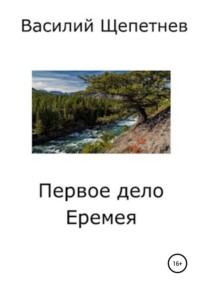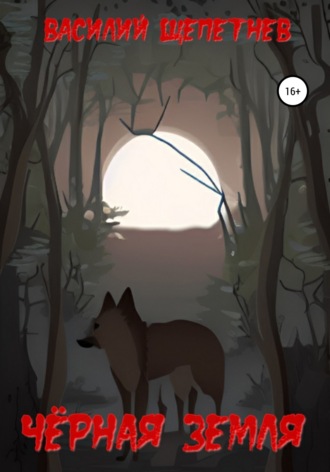
Полная версия
Чёрная Земля
– Чего ж, Фима, не работаешь?
– Так – общественное поручение!
– Какое?
– Да ты.
– Ага, – Никифоров почувствовал себя странно. С одной стороны, вроде и лестно, почет, а с другой… – Тогда что будем делать?
– Дядя Василь думает, может, на речку сначала, – интонация была не вопросительная. Сказано, и все, ясно.
– На речку – можно, – Никифоров уцепился за это «сначала». А дальше он и сам решит, что делать.
Речка оказалась верстах в двух от края села, а сколько до края пришлось топать… По пути опять пристал кабыздох, Никифоров обрадовался, и собачка – тоже. Фимка, впрочем, оказался болтливым пареньком, и Никифоров даже не заметил, как они дошли.
– Вот она, речка наша. Шаршок называется.
Речка Никифорову понравилась. Неширокая, спокойная, по берегам сплошь деревья. Ивы, что ли, в ботанике он был слабоват, знал клен, дуб и березу наверное, а в остальных путался.
– Рыбы, поди, много?
– Водится, – Фимка провел его к месту, откуда удобно было входить в реку. – У нас многие любят рыбачить, да времени нет.
Вода, чистая и ласковая, не хотела отпускать. Купались они до синевы, до зубной дроби, и теперь Никифорову идея Василя представлялась самой удачной. Особенно, когда из котомки Фимка достал обед, что мир предназначил одному Никифорову, но управились едва вдвоем.
– Хорошо тут у вас, – лежа на траве, он жевал запеканку со свежим, жирным творогом. Изюму тоже не пожалели. Еще бы, виноградный край.
– Скучно, – Фимка ел медленно, как бы нехотя, разве что компанию поддержать, но подбирал каждую крошку. Деликатничает. – По двенадцать, по четырнадцать часов работа, работа… Вот в городе – смену кончил, и делай, что хочешь, правда ведь?
– Правда, – согласился Никифоров. Делай, что хочешь… Вот и делают. В скученности, грязи, помоях. Бескультурья много пока еще. Но говорить этого не стал.
– Я, к примеру… Я художником хочу, – Фимка покраснел, залез в котомку. – Вот, рисунки, случайно захватил, – от протянул Никифорову альбомчик.
Понятно. Спрашивает мнение человека со стороны, можно сказать, специалиста по культуре. Польщенный Никифоров взял альбом.
Рисунки были не хороши, ни дурны. Аккуратно выведенные березки, коровы, излучина реки, церковь. Отдельно – собака, корова, люди, все больше издали да со спины.
– В училище думаешь поступать?
– А возьмут?
– Происхождение у тебя какое?
– Из бедняков. Батрачим, своего хозяйства у нас, можно сказать, и нет.
Никифоров продолжал листать альбом.
– А это что за морды? Черти?
– Это? Я просто…
– Антипоповская пропаганда, да? Представление?
– Вроде.
– Здорово. Костюмы пошить такие кто бы взялся. Оторопь берет, как ты только и придумал… – он просмотрел альбом до конца. Все, больше, к счастью, ничего нет. – Попробовать стоит – в училище.
– Я узнавал, – Фимка покраснел, – в сентябре ехать нужно. И работы представить. Я новые нарисовать хочу, по теме. Освобожденный труд, успехи.
– Времени, значит, хватит, – речка вдруг потеряла привлекательность. Назад, в воду больше не хотелось, да и валяться на траве тоже. Солнцем голову напекло? Они оделись, благо обсохли, и пошли, а куда? Даже спрашивать не хотелось.
– Мне говорили – из бедняков кто, тому дорога везде сейчас. Один, из Шуриновки, даже в самой Москве на доктора учится.
Кабыздох загавкал предупреждающе.
– Бабка Лукьяниха, – показал Фимка на семенившую неподалеку старуху. Бодро, споро идет.
– Ну, бабка.
– Отряду водку тащит, наверное. Пойдем, глянем?
– Какому отряду?
– А красноармейскому. Пойдем, у них такая машина землеройная, просто зверь.
Никифоров покорился. Бабка, машина, отряд какой-то… Чувствовал он себя совсем лишним, никчемным. Нанесло сюда без нужды, нужен он, как мерин кобыле… Он тряхнул головой. Упаднический пессимизм. Не стоило в жару пить эти… а, выморозки. По стопочке всего и выпили, ну, по два. Фимке хоть бы хны, они, деревенские, привычны, небось, от соски.
Шли они вдоль берега, бабка не оглядывалась, да и с чего? дело житейское. Версты через полторы заслышался шум, рокочущий, моторный. Бабка приняла в сторону, вышла на открытое место.
– Вон, видишь? – показал Фимка.
Шумела машина, но что за машина! больше трамвая, на гусеницах, она ползла вперед, врываясь в землю колесом с ковшами, а колесо-то вышиной с дом будет, а за собой оставляя траншею.
– Роторный экскаватор, – гордо сказал Фимка.
– Откуда знаешь?
– Да у нас многие – с красноармейцами… насчет водки.
– Окопы роют?
– Не, связь. Вон, дальше…
Действительно, дальше шла повозка, тащили ее пара лошадей. На повозке стоял барабан, с которого медленно сматывался кабель, сматывался и уходил на дно траншеи. А совсем позади еще одна машина сгребала землю назад, засыпая траншею, прикатывала ее. Красноармейцы, до полуроты, сновали рядом, поправляя, прикапывая лопатами огрехи.
– Треть версты за день укладывают. Скоро уйдут, тогда Шаршки будут меняться.
– Меняться?
– Ну да. Мы им водку, а они железо там, гвозди. Гляди.
Действительно, мена шла почти открыто: бабка передала две четверти, а красноармеец, пожилой, видно, из хозяйственников, какой-то сверток. Бабка, не разворачивая, пошла назад.
– Надо будет дяде Василю доказать.
– Доказать?
– Ну да, бабка Лукьяниха из подкулачников. А ведь получается – имущество казенное расхищает, армейское. Он ее приструнит, на заем или еще как…
Лукьяниха ушла, а они все смотрели, как медленно, но упорно двигался вперед поезд связистов. Наверное, телефонная линия, на случай войны. Совсем уже сзади несколько бойцов укладывали дерн, получалось аккуратно, образцово. Не знать, что рыли – и не заметишь.
– Она осядет, земля, – сказал Фимка. – Немного, да осядет. Но все равно здорово.
Никифоров согласился. Армия предстала перед ним мощным, слаженным, выверенным механизмом. Отец не противился тому, что он пошел по гражданской части, ничего, в жизни не лишнее, зато потом легче будет поступить в училище красных комиссаров, или в органы. Образование не помеха.
Они сидели долго, завороженные странной, почти колдовской работой механизмов и людей. Наверное, слишком долго. Наконец, Никифоров решил, что довольно, хватит, и оказалось – вечереет. Пока шли назад, день и прошел. Быстро прошел, а что оставил?
Фимка задержался в селе – «заскочу к своим, а после приду», в ночь был его черед нести вахту. А пока в церкви встретил он другую девушку, не Клаву., та с обеда ушла. Они кивнули друг другу, но говорить не стали.
Ужинал Никифоров, как и давеча – малец передал котомку через окно. Как с прокаженным или каторжником, пришло на ум. И смотрел паренек как-то… и жадно, и любопытно, и жалостливо.
– Ты что, боишься зайти? Или не велят? – спросил он.
– Ага, – малец кивнул.
– Да не съем же я тебя, – но паренек не поверил. Или сделал вид, что не верит. Да просто ему этот городской – докука, своих дел невпроворот. Или напротив, как в зверинец сходить. Американский койот, гроза прерий, а в клетке – что-то вроде дворового Шарика. Или действительно – койот? На всякий случай руку совать не стоит. Осмотримся поперва.
Никифоров расстарался устроиться удобнее. Клонило в сон, а что он за день сделал? Думай, голова, картуз куплю. О чем думать-то? О виденном. Например, военные. А если они причастны к смерти дочки товарища Купы? Вот так, взяли и застрелили? Ну нет, что другое… А надо бы узнать, может, сначала что другое и было…
Сон наплывал, укутывал. По полю ползла уже не машина, а тысяченожка, гигантская сколопендра, и он знал наверное, что она откладывает в землю яйца, яйца, из которых потом такое понавылупляется… Вдруг она изменила путь и двинулась к нему, беспечно лежавшему на берегу речушки. Солдаты-погонщики засуетились, криками пытаясь то ли чудище остановить, то ли его, Никифорова, прогнать. Ноги, как это и бывает обыкновенно во снах, стали неслушными, и он, упираясь на руки, попытался перетащить тело в сторону, подальше от надвигающейся громады, пыхтящей, поблескивающей жвалами. Сейчас вот схватит, обовьет шелковой нитью вместе с яичком и закопает. Свалившись в речку, он поплыл, вода держала и ноги, наконец, подчинились, плывем, плывем, но тут что-то подхватило его с обеих сторон, не больно, но цепко, подхватило и вознесло вверх. Никифоров почувствовал, что его оплетает клейкая лента, забился, зная наперед, что не вырвется, а лента круг за кругом пеленала тело…
Он встрепенулся, освобождаясь ото сна.
– Студент, а, студент, ты не спишь?
Никифоров завертел головой, определяясь, кто и откуда. Звали из окна, полураскрытого, едва видимого в темноте.
– Ну, где же ты?
Он подошел, немного шатаясь со сна, распахнул окошко пошире.
– Руку дай!
Он послушно протянул руку. Клава ловко, не ждал такой прыти, вскочила на подоконник.
– Что-то случилось?
– Я просто в гости зашла, пустишь? – спросила она. Явное излишество: Клава обосновалась в келье не дожидаясь ответа – толкнула табурет, села на постель.
– В гости, – тупо повторил он.
– Или не рад?
– Рад, почему, я рад, – забормотал Никифоров, – еще бы…
– Тогда почему стоишь? Или у вас все такие робкие в городе?
– Сейчас, – он сел на краешек лежака. Придвинуться? Опять решили за него – Клава прижалась к нему, задышала горячо, Никифоров и загорелся.
Опыт у него был, маленький, да свой.
Далеко заполночь они задремали – и не сон, и не явь. Клава не шевелилась, тело ее – опаляло. Ничего.
В дверь застучали, забарабанили, и крик, истошный, рваный:
– Помогите! Скорее, помогите!
Он вздрогнул, вскочил.
– Ты куда? – Клава ухватила его за руку.
– Открыть…
– Это Фимка орет. Хочет посмотреть, один ты, или нет. Он дурак, потом растрепется по селу…
Они сидели бок о бок, слушая, как содрогается дверь от ударов, бешенных, диких. Крепкая дверь, старая работа. А не выйти ли, наподдать этому Фимке по-нашенски, пусть знает?
Что-то не хотелось. Уж больно здорово колотил тот по двери. Да и Клава…
Но придется. Он привстал, но девушка вцепилась в плечо:
– Не ходи!
– Да что ты? Дам раза, покатится с катушек!
– Не ходи! Увидит…
И верно, как же он сам не подумал. Того Фимке и нужно – посмотреть, один ли он здесь. Деревня, Клаве позор. Ну, Фимка, дождешься…
На счастье, стук стих. Надоело, или подумал, что нет Никифорова внутри. Ушел в окно, да и все, чего надрываться? Орал-то Фимка здорово, натурально. Прямо артист.
– Я… Мне пора. – Клава тяжело, неуклюже слезла с лежака.
Вот так. Обгадил дружок ночку.
– Погоди, – пытался он удержать девушку, но больше для порядка, чувствовалось, ни ему, ни ей оставаться вместе не хотелось.
– Завтра свидимся, завтра, – Клава торопливо оделась. Он коснулся девушки и дрожь, крупная, неудержная, передалась и Никифорову.
– Завтра… – но закончить было нечем. Он потерянно, тупо смотрел, как Клава вскарабкалась на подоконник и соскользнула вниз. Надо бы проводить, наверное. Никифоров поспешил к окну, и увидел лишь мелькнувший в кустах сарафан. Тут же облако закрыло луну, и только на слух можно было проследить путь Клавы. Ладно, все равно не догнать, да еще он в таком виде, пока оденется…
Он и оделся, споро, быстрым шагом дошел дошел до калитки, но Клавы и след простыл. Где-то вдалеке слышались ее шаги, но громче их были песни цикад, расшумевшихся в ночи,
Пойти да наподдать Фимке?
Утром. Спокойно, без гнева, уча даст раза. Без гнева – главное.
Он вернулся, вскарабкался на подоконник.
Знобило. Странно, потому что здесь, у окна было тепло, воздух снаружи, спокойный, парной. Внутри же действительно зябко. Келья, да. Однако в монахи ему не с руки.
Удивительно, то цикад, орущих за оградою, здесь совершенно не слышно. Тишина.
И, будто услышав мысли Никифорова, кто-то засмеялся:
– Хи-хи-хи…
Смеялись совсем рядом, за дверью. На Фимку даже и непохоже, слишком высок, тонок голос. Наверное, кто-нибудь к нему пришел тоже…
Он лег, укрылся, поджал к животу ноги. Теплее, теплее… С Фимкой разбираться не хотелось, пошел он – именно туда. Дурак и есть дурак. Утром, конечно, придется стукнуть по шее, а лучше – высмеять как-нибудь. Мол, снилось мне, Фимка, будто ты…
Шорох, громкий, неприятный, шел снизу, из подполья. Развели крысюков. Церковные крысы, они – бойкие. Стало неприятно, хотя вообще-то Никифоров крыс не боялся, но и любить их было не за что. Воры, разносчики заразы, первый признак непорядка. Давить их нужно, давить и травить. Пирожки с толченым стеклом.
Возня стихла, но еще раньше Никифоров согрелся и уснул. Подумаешь, невидаль – крысы под полом…
Проснулся рано, поутру, с деревенскими. Вспоминал давешнее – сон, нет? Сейчас все казалось зыбким, чудным, такое с Никифоровым бывало. Приснится порой, что отец ему револьвер подарил, и потом, между снами, мучительно вспоминаешь, куда же револьвер задевался. А снилось часто, он наизусть знал тот револьвер, пятизарядный «кольт», старую, но безотказную машинку, свою машинку. Разумеется, никакого «кольта» на самом деле не существовало, у отца был именной «наган» вороненой стали, из которого Никифоров даже стрелял, но то – у отца.
Еще сонный, он оделся, толкнулся в дверь. Шероховатость дерева под ладонью, его твердость, вещественность убеждали – было, все было. Никифоров переступил порожек, вглядываясь под ноги. Чего ждал, что искал? Было чисто. То есть, не то, чтобы чисто совершенно, мусору хватало, но мусору обыденного, повседневного – щепочки, недокуренные самокрутки, просто клочки бумаги, дорожная пыль, кажется, следы плевков, в общем, самая обыкновенная дрянь.
Кровавых пятен не хватает? Никифоров обругал себя «за фантазии», далеко можно пойти, если не тормознуть вовремя. Суеверия, пережиток. Что суеверие, что пережиток, он не определял. Так легче, проще. Простота нравилась, как нравится ясный, солнечный день, ключевая вода, свежеиспеченный хлеб.
Он медлил, понимая, что спускать Фимке нельзя, нельзя просто из-за принципа, и, в то же время, устраивать драку здесь? Не место, он, Фимка, вроде как на посту. При исполнении.
В раздумье он двигался по коридору, а потом решил – как получится. По обстановке.
Ломал голову напрасно – Фимки не было. Вышел, может, по нужде. Никифоров подошел к двери, прикрытой, но не запертой. А воздух снаружи бодрый, озорной. И роса. К дождю роса, или нет, кажется, наоборот? Он вглядывался, слушал, решив про себя ограничится парой подзатыльников, большего, право, Фимка не стоил.
Только ноги измочил. Росой, росой измочил, а все же…
Вернувшись в келью, он пожевал оставленное с вечера и опять улегся. На сей раз спать и не думал, просто поваляться хотел, что утреничать, но – как в прорубь шагнул. Сны холодные и темные.
– Уймись! Уймись, говорю! Найдется твой Ефим, куда денется!
В ответ причитания, частые, неразборчивые, безнадежные.
– От дура баба! Понять не может, что у парня своя жизнь. Послал я его по делу. Важному, ответственному делу. Кому попало не поручишь, а Ефим хлопец как раз подходящий, надежный. Доверие оказали, гордиться должна, а ты…
– А почему мне не сказал? Матери!
– Спешно послал, понимаешь, спешно! Ты бы шла домой, сыну-то вредишь, судьбу ломаешь!
Причитания постепенно стихали. Никифоров прибрался – лежак застелил, крошки смел. Порядок, можно гостя встречать.
Он не ошибся – Василь вошел без стука, как к своему.
– Что, парень, заспался? – а смотрел настороженно, зорко.
– Спал… – неопределенно махнул рукой Никифоров. Рассказал Фимка? Да что он мог рассказать, Клаву-то не видел. Как по двери молотил, разве? А мог. Просто взял да рассказал, и что знал, и так, трепло…
– Хорошо спал?
– Не жалуюсь, – в конце концов, какое им всем дело? Хочет – спит, хочет – на дудке играет. Деревенскими командуй.
– А то наши хлопцы так, из шкоды, шутковать любят.
– Не слышал.
– Ну и лады. Даже хорошо, что выспался. Отдохнул, значит, – Василь осматривал комнатушку – как бы просто, незначимо, но Никифоров порадовался, что навел чистоту. Все же – не в лесу живем, опять же культура… – Не заскучал тут у нас?
– Я как-то…
– Понимаю. Но сейчас, сейчас, брат, нашлось тебе дело. Настоящее. Серьезное дело, не пустяшное, – Василь посмотрел прямо на Никифорова. Взгляд был – новый. Давеча совсем другие глаза были, нынче ж исчезла былая снисходительность старшего, даже безразличие (да, сейчас ясно стало – было оно, безразличие, просто из гордости он мысли такой не допускал прежде), а появился – интерес. Но вот что за интерес, Никифоров понять не мог. И некогда, Василь заторопил:
– Ты того, пошли, что ли, – и в голосе слышалась нерешительность, которой вчера и быть не могло.
– Куда?
– Да позавтракаем сначала.
Что будет после, Никифоров спрашивать не стал. Не пристало. Он человек взрослый, подождет.
Невдалеке от ограды, у березы, чахлой, наполовину засохшей, он заметил Кабыздоха. Пес кружился на одном месте, время от времени царапая сухую землю передними лапами, будто пытался вырыть ямку. При виде Никифорова он залаял, вернее, затяфкал – тихо, неуверенно, тоненьким щенячьим голоском.
Никифоров хотел было кликнуть пса, но постеснялся Василя. Тот равнодушно шел мимо, и Никифорову не оставалось ничего другого, как идти рядом, надеясь, что пес сам подбежит. С собакой было бы как-то веселее, Шагов через двадцать он обернулся, вроде бы и не на пса глянуть, а так, просто. Кабыздох оставался на месте, неотрывно глядя в сторону уходящих. Он еще раз тяфкнул, совсем уже тихо, и Никифоров поспешил отвернуться.
Завтракали они там же, где и давеча, у товарища Купы. И опять без товарища Купы.
– Он занят… – как-то неопределенно сказал Василь. Мол, и знать тебе не должно, а все же скажу из вежливости. – Позже… Позже ты с ним повидаешься, он спрашивал о тебе… А сейчас – с прошлого года мы радио хотели в селе установить. Да вот некому. Ребята наши, они в науке малость слабоваты, а оно, радио, селу ох как нужно. Москву принимать, и вообще – говорил Василь, а сам словно прислушивался к чему-то. – Ты – сможешь?
– А какое радио?
– Погляди, – Василь вышел в соседнюю комнату и вернулся с коробкой. – Премировали нас в том году, а лежит без толку.
– За что премировали? – спросил Никифоров и тут же обругал себя, тоже, любопытный выискался. Но Василь ответил охотно:
– А мы первые вышли по распространению политической книги. На каждый двор по семь с половиной брошюр вышло. Уж они вертелись-вертелись, да поняли – лучше добром взять. Шаршки, они далеко от нас отстали. Вот и премировали.
Радио оказалось простеньким: детекторный приемничек «Мир-2», наушники, провода.
– Так сможешь?
– Смогу. Мне бы еще медного проводу, антенну побольше сделать, лучше слышно будет. И заземление…
– Проводу? Это мы… Это мы сможем, – Василь даже обрадовался. – Тут связисты, батальон. Они дадут. Пойдем, прямо сейчас и пойдем…
Вел Василь другой дорогой, не той, что шли они вчера с Фимкой. Да и вывела она не туда.
Лагерь стоял в распадке – несколько палаток, больших, барачных, с деревянным оплотом, но видно было – ненадолго поставлены: не окопаны, и мусору рядом мало.
– Ты по сторонам не пялься, не любят они того, – предупредил Никифорова Василь.
А чего пялиться, подумаешь, невидаль. Он городки палаточные видел – не чета этому. Когда отец еще инспектором округа был…
Их окликнули у самого лагеря – дежурный, разморенный, потный, явно узнал Василя, и махнул рукой.
– В синей палатке они.
Палатка была обычной, синего – полоска над клапаном.
– Ты проходи, проходи.
Внутри было, как во всякой палатке – не свет, не мрак. На скамье за дощатым, наспех сколоченным столом, сидел в одном исподнем толстый и лысый красноармеец. Селедку ел. Гимнастерка и прочая одежда лежали в куче на другой скамье, и потому Никифоров никак не мог определить звание. А звание – оно для военного главнее лица. Что лицо, надел противогаз, и нет лица. Петлицы, петлицы, вот на что в первую очередь нужно обращать внимание, учил отец. Иной на вид – чисто комкор, и ступает вальяжно, и движения неспешные, величавые, а приглядишься внимательнее – э, да ты просто наглец, братец.
Интендант, подумалось вдруг. Всего-то – толстая складка на загривке, а вывод и сделан. Торопишься. Спешка да верхоглядство превращают разведку в… Нет, он не ошибся, сидевший, похоже, действительно был интендантом. Клочком газеты интендант вытер руки и только потом протянул обе навстречу Василю.
– Ну, кум, прощаться пришел?
– Уже снимаетесь?
– Нет, дня два еще постоим. А там да, там – ищи ветра в поле. За тридцать верст откочуем, под Станюки, что за Глушицами. Бывал?
– У нас только и дел по всяким Станюкам таскаться.
– Может, приходилось. Ты ведь непоседой был, знаю. Ну, зачем пришел, а?
– Пустяк. То есть, для тебя пустяк, а нам, сирым – ни в жисть не найти, – Василь подтолкнул Никифорова. – Излагай!
– Нам бы провода медного, для радио. Метров тридцать, – он хотел сказать – шесть, но с языка сорвалась цифра совсем несуразная. Не цифра, число, машинально поправил Никифоров самого себя. И все-таки, почему тридцать? Наверное, решил, что за меньшим куском и идти не стоило в такую даль.
– Тридцать… – интендант впервые посмотрел прямо на Никифорова. – Однако, губа у тебя…
– Я на колокольню, на самый верх антенну поставлю. Да заземление еще, – начал объяснять Никифоров, досадуя на собственную несдержанность. Дали бы пять метров, и хватит.
– На самый верх? Не свались только, – интендант пошел вглубь палатки, скрылся за ящиками, наставленными под самый потолок. – Тебе ведь обрезки не сгодятся. Одним куском, поди, хочешь?
– Двумя. На антенну и на заземление.
– Уже облегчение, – голос стал глухим, словно ушел интендант в невесть какую даль.
Василь подмигнул, молодец, парень, не теряешься. Несколько минут слышны были стуки передвигаемых ящичков, кашель интенданта да жужжание мух над селедочной требухой.
– Владей, – интендант возник неслышно. Взял да и появился.
– Спасибо. Большое спасибо, – Никифоров принял мотки. Хороший провод, многожильный, гуттаперчевой изоляции. – Немецкий?
– Да ты, вижу, знаток. Шведский. Для нашего дела бракованный, а тебе самый раз.
– Ты подожди меня там, снаружи. Нам поговорить нужно, – Василь присел на скамью рядом с интендантом.
Можно и снаружи, чин не велик.
Он выбрался на свежий воздух. О чем говорили внутри не разобрать, даже если слушать, но он не слушал. Что ему чужие дела, у него свое есть. проводу на глаз выходило много, действительно, придется на самую верхотуру лезть, раз обещался. Зато Москву принимать будет, Ленинград, Киев.
Скучать Никифорову не пришлось, Василь вышел скоро. Смурной какой-то, но – собранный, напряженный.
– Пошли, – и до середины дороги молчал. Никифоров тоже не горел желанием болтать. О чем, да и зачем?
Наконец, Василь очнулся от дум.
– Уходят. Понимаешь, когда они рядом, спокойнее было.
– Спокойнее?
– Да. Я ж говорил, тревожно у нас. На вид – покой, гладь, а под поверхностью такое копошится… Контра, кругом контра таится. Окопалась. Так это пока силу чует. А дашь слабину, вмиг и повылазит. Общее хозяйство, оно только бедному и глядится. И то не каждому, а тому, кто с понятием. А у нас бедняков в селе немного, слаба основа… И тех запутать, запугать норовят.
– Запугать?
– Ну да. Народ темный. Ночью коту на хвост наступят, а потом месяц про черта рассказывают. Мужики, что бабы стали…
– Кот, он такой… как заорет… – Никифоров решил, что Василь проверяет его. Наверное, Фимка рассказал. Или даже Василь проверял его таким образом – подговорил Фимку, тот и куролесил ночью. – А бояться, конечно, глупо.
– Еще бы. Через их бабьи страхи все и происходит.
– Что происходит?
– Да ерунда, с одной стороны если смотреть. А пристальнее – так против нашей власти агитация. Боятся коллективизации, вот и стращают, – Василь определенно не желал вдаваться в подробности, переводил на обиняки. Как хочет. Очень, можно подумать, нужно Никифорову знать местные сплетни.
– Я радио займусь? – они уже шли по селу.
– Радио? Да, да… Вернее… Погоди. Сейчас не нужно. Потом, после похорон.
– Как скажете, – зачем тогда было затеваться? Ах, да, провод. Кабы сегодня не взяли, неизвестно, удалось ли где вообще раздобыть его. Уходит красная армия…
У самой церкви Василя перехватили:
– Вас в сельсовет…– запыхавшаяся Клава на Никифорова и не глянула. Наверное, так и нужно. Но стало обидно.
– Я подойду, – пообещал Василь. Подойдет? Никифоров смотрел вслед. Клава что-то говорила, обрывки слов долетали до него, но он не вслушивался.
Не обернулась.
Никифоров побрел в гору. Кабыздох подбежал, вильнул хвостом. В кармане завалялся кусочек хлеба. Жри, пес. За верность.