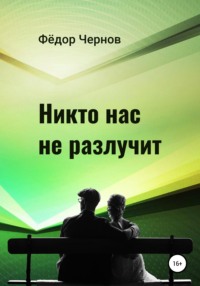полная версия
полная версияЦикорий
– Ооо, знатно! Поддай-ка, Миша, ишо пару! – попросил Максим Иванович.
Мнимый Миша зачерпнул воды объёмистым ковшом, плеснул на каменку. Пар со свистом свирепо рванулся вверх, будто демон какой.
– Ух, хорошо! Едрёный корень, хо-хо-хо!
Затем последовала просьба ещё поддать жарку.
Первым слез Артём. Сыновья стали мыться.
– Ффу-у, – нахлеставшись вволю веником, натешившись, прапрадед слез с полка и сел рядом на соседнюю лавку. Хохотнул:
– Чё-то, Миша, маловато попарился, не замёрз? Иди, похлещись маленько. Не хошь? Ну ладно, заново привыкать надобно тебе к крестьянской нашей мирной жизни.
Мнимый Михаил вздохнул и сказал:
– Тятя, смута в России начинается, гражданская война.
– Не болтай, чё выдумывашь глупости! – воскликнул Максим Иванович.
– То не глупости. Чехословаки губернский город захватили. Теперь русская белая армия организуется, прежние порядки хотят вернуть, опять чтобы царь правил Россией. Железнодорожную станцию уже заняли. Я еле успел оттуда уехать. Не хочу воевать, потому и военную форму поменял на гражданскую.
Всю революционную власть свергают, расстреливают. Только ненадолго это. Всё равно большевики победят.
– Откуда ты это знашь? – удивился Максим Иванович, – тоже мне, пророк нашёлся! Мойся давай, не болтай.
Вася, ставший Мишей, по примеру Артёма стал мыть голову щёлоком, налитым в глубокий таз. Помнилось в детстве, как бабушка и родители обходились без шампуней. Готовили щёлок – настой из древесной золы. Волосы потом приятные на ощупь становились, пушистые, мягонькие.
Помывшись, прапрадед окатил себя водой, вытерся и начал одеваться. Василий последовал его примеру, пытаясь ещё кое-что втолковать упрямому крестьянину. Но тот отмахнулся от него.
Глава 8. После бани. Притча
После бани зашли в дом. Распаренные, с лицами благодушными, красными, почти как свёкольный квас, который они сразу с наслаждением глотнули. Вася оценил по достоинству его вкус и крепость. У мамы и бабушки получался такой же. Сели за стол. Хозяин дома стал резать ковригу ржаного хлеба. Хозяйка налила всем в тарелки борща. Она ходила в баню позже, когда сильный жар спадал.
Все принялись хлебать варево, закусывая хлебом и редькой.
Когда насытились, Василий, то бишь Михаил в этом мире, продолжил разговор, начатый в бане:
– Да, тятя, большевики не сразу, но победят. А когда они в силу войдут, то всё вверх тормашками в стране полетит. Богатых начнут арестовывать и в Сибирь ссылать.
– Ты чё городишь, наслушался в городе умников! – возмутился тятя. – Ну, богатых погонят, а хоть бы и так, мы-то при чём? Не больно помещики какие.
– Для большевиков мы богачи, – убеждал Вася. – Надо постепенно скот распродать, золотые изделия потихоньку накупить и в другую волость переехать. Может даже в другую губернию. Пока не поздно.
– Ну и чё ты мелешь?! Распродать то, что трудом великим нажито? Ты что, от пьянки не очухался?
Артём засмеялся.
– Трезвый я, тятя. Великие беды ждут Россию. Скоро Белая армия начнёт порядки старые устанавливать. Мобилизация начнётся. Куда-то бы спрятаться нам с Артёмкой надо будет, чтобы туда не попасть. Против советской власти погонят воевать. Только Красная армия победит.
– Опять двадцать пять! Как ты можешь этак говорить, откуда тебе знать про то, чего ишо нет? – удивился отец.
– Да вот знаю, умные люди говорили, да и сам повидал многое, понятие имею…
– Ну и чё дальше будет?
– А потом, – продолжал Василий, уже совсем вошедший в образ Михаила, – большевики раскулачивать начнут всех, у кого хозяйство крепкое. Отбирать богатство. Так что придётся уезжать нам отсюда.
– Ну, понёс околесицу! Ты, Миша, хоть другим людям не рассказывай свои выдумки, высмеют тебя.
– Да не выдумки это, а предупреждение…
– Хо-хо! Послушай-ка, Михаил, я тебе притчу расскажу. Не помню уж, от кого слышал. Вот в старину жило одно племя возле реки. Спокойная речка, луга хорошие вокруг. Левый берег пологий, а правый – крутой. В одном месте скала возвышалась, называли её утёс Булат. Когда-то в тех местах богатырь жил. Огромадного росту человек, силищу имел великую. Если враги нападут на его народ, то он запрыгивал на свово богатырского коня с копьём и мечом во главе племени, значит, мчался на врагов. Колол, рубил, крушил всех подряд.
Много раз защищал Булат свой народ. Постепенно состарился. Пришла пора покидать белый свет. А у него ведь какая-то волшебная сила ещё была. Перед кончиной сказал, что никогда в беде племя не оставит. Ежели какой враг нападёт, стоит только крикнуть перед его могилой, позвать на помощь, как он из-под земли явится живой на коне с оружием. Оживеет только на время сражения.
Вот, значица, похоронили его на берегу реки, как он завещал. Над могилой насыпали высокий курган, который в скалу превратился, в утёс тот самый. И после того, как врага заметят одноплеменники, крикнут, позовут на помощь возле утёса, тот и откроется. Оживеет Булат-богатырь, выедет на коне и начнёт копьём колоть, мечом рубать, конём топтать вражью силу. Побьёт врагов и обратно в могилу уйдёт.
Всё бы ладно, да подслушали ребятишки, как взрослые вызывают великого воина. Стали однажды они играть возле утёса в войну и решили, озори, вызвать богатыря. Расступилась скала и выехал богатырь, огляделся – никакого нападения нету. Вернулся под землю.
Ребятишки испугались сначала. А потом смешно им стало. Другим детям рассказали, похвастались. На другой день опять великого воина вызвали. Сердитый вернулся он обратно. В другой раз насмешники расшалились и опять закричали, спасай, мол, Булат, враги напали. Тут уж со страшным грохотом земля затряслась, скала раскололась. Выскочил оттуда Булат-богатырь, размахивая мечом, конь на дыбы взвился. К утёсу сбежались взрослые. А богатырь им кричит, дескать, я вас столько раз спасал, а вы надо мной смеяться вздумали?! Разгневался ужасно Булат и сказал, что больше никогда племени помогать не будет. Скрылся от них в скале, и не стало у них защитника. Вот такие предупреждения… И ты, Миша, понапрасну народ не смущай.
Да, вот что ещё… Я у тебя вроде крестика не видел?
– На квартире в городе оставил, забыл.
– Ну вот, забыл!.. Нехорошо. Надо тебе поискать в комоде, должен быть один запасной.
Вскоре хозяин дома вручил Василию оловянный крестик на шёлковом шнурке.
Поужинав, семейство зашло в горницу, где стоял небольшой иконостас, и под руководством хозяина дома помолилось.
Максим Иванович после того произнёс заговор от пьянства:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь, хмель и вино отступись от раба божьего Михаила в тёмные леса, где люди не ходят, кони не бродят, птица не летает. Избави и укрепи, Господи, раба божьего Михаила от хмельного пития и запойства, воздержи его от всяких худых дел и обстояний. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь».
Ночью, когда уже все легли спать, Вася думал, как же ему быть. Вдруг раньше приедет настоящий сын, его прадед Михаил? Что тогда будет? Трудно представить… А уговорить отсюда уехать прапрадеда невозможно. Надо найти портал, через который он попал сюда, и попробовать перебраться обратно, в своё время. Может быть, получится… Да вот Артёма бы уговорить избежать мобилизации в Белую армию, где-то бы спрятаться…
Глава 9. Воскресенье. Благодать и заступничество
В воскресенье семья посетила церковь. Надели рубахи, украшенные вышивкой. Интересные узоры. Пояса с кистями. По пути на церковную службу кланялись всем, кого встречали по дороге.
А вот и церковь. Василий с любопытством осматривал внутреннее убранство храма. При советской власти храм превратили в зерносклад. Впоследствии, когда построили новые склады, здание забросили. Двери железные сняли. Вася в детстве с дружками играл здесь в войну, это у них крепость считалась. Росписи на стенах поблекли, штукатурка в некоторых местах отлетела. В последние годы на сходе сельчан решили реставрировать храм. Обнесли его строительными лесами. Но дело подвигалось медленно.
А тут все росписи целые, иконостас большой. Полюбовался Василий, помолился по примеру других. На одной из икон изображён Иисус Христос, глядящий прямо на молящихся. В его взгляде светились мудрость и грусть. Василию стало неуютно, показалось, что Бог-Сын ожил и жалостно-всепонимающе смотрит на него. Парень отступил назад и потихоньку выбрался на свежий воздух.
– Здорово, Миша! – приветствовал его плечистый мужчина, тоже вышедший из церкви, – что, тоже устал проповеди слушать? – он протянул ему широкую ладонь.
Они крепко стиснули руки. Вася думал, как бы не оплошать, ведь о чём говорить с незнакомцем, не знал. Неопределённо хмыкнул. Мужчина, прямо глядя на него голубыми навыкате глазами, спросил:
– Ты ведь, кажись, в город уезжал робить? Не пондравилось, чё ли?
– Да нет, на побывку прибыл временно, – усмехнулся Вася.
– Дак можа сообразим, у меня самогон есть. Пошли, хлобыснём! Посидим, покалякаем. Соседа позовём, как есть мы фронтовики, заслужили, имеем право отдохнуть по-людски.
Из церкви стали выходить прихожане. Видать, служба закончилась. Максим Иванович поприветствовал его собеседника, попенял:
– Михаил, что же ты раньше ушёл? Негоже так делать. И ты, Пантелей, не причащался, не исповедовался? Грешно…
– Да у меня, дядя Максим, столько грехов, что никакой поп не поможет! – хохотнул тот, – на фронте как в аду побывал, нечего бояться!
– Не кощунствуй, – строго промолвил блюститель нравов.
– Ну, бывай, Пантелей, здоровья тебе побольше, – махнул Василий-Михаил на прощание.
– И ты не хворай! Не хочешь в гости-то зайти?
Василий отрицательно покачал головой. Семья отправилась домой. Коробов с любопытством оглядывал дома. Некоторые избы, рубленые из сосен, сохранились до времени, откуда он провалился в прошлое, ставшее для него сейчас настоящим. Кое-где высокие ворота были знакомые. Большинство же изб были незнакомые, старые, непрезентабельного вида. Мост тоже был старый, пригодный только для пешеходов и проезда подвод на конной тяге. Зато речка – намного полноводнее, чем в его время. На берегах её рыбачили ребятишки. Двое подростков недалеко от моста ловили рыбу, сидя в лодке, третий их приятель управлялся с веслом, удерживая лодку на середине.
Семейство завернуло в свой переулок. Вдруг из дома слева выскочила растрёпанная женщина. За ней бежал высокий, плотный мужик в грязной рубахе без пояса. Он орал:
– Стой, курва! Я тебя научу, как мужа надо уважать!
Коробов кинулся наперерез дебоширу, толкнул его. Тот отшатнулся, матюгнулся, широко размахнулся и попытался ударить неожиданного заступника. Василий увернулся, огромный кулак просвистел над головой. Уклонился от второго удара и провёл бросок через бедро. Хулиган грохнулся на дорогу, подняв облако пыли. Он взревел как бык, хотел вскочить. Не тут-то было! Василий уже закрутил ему руку за спину.
– Мирон, Мирон! Успокойся! Перестань бузить, и жену хватит обижать! – восклицал Максим Иванович.
– Дядя Максим, скажи своему сыну, чтобы отпустил меня! – вопил Мирон, изрыгая матюги и пытаясь вырваться.
– Вот ты опять напился, опять жену бьёшь. Не по-людски так поступать, не по- христиански! – увещевал соседа Максим Иванович. – Грех это! Сегодня воскресенье, мы вот на церковной службе были, благодати сподобились. А ты и храм не посетил, и пьянствуешь, и жену обижаешь. Ох, как нехорошо.
Буйный сосед не мог вскочить и сбросить Василия, хватка у того оказалась железной. Он продолжал препираться, пока в переулок не зашли двое мужиков – пожилой и молодой. Судя по рыжеватым волосам на голове и крупным чертам лиц – родственники дебошира. Действительно, это оказались его отец и младший брат. Отец резко поговорил со старшим сыном. После чего Вася отпустил того. Родственники подхватили под руки дебошира и повели его домой. Тот только мотал головой, слушая суровую речь отца.
– Миша, тебя в армии таким приёмам научили? – Артём восхищённо глядел на брата.
– Да, там учили нас рукопашному бою хорошо, – ответил мнимый брат.
Не расскажешь ведь, что он в своём мире занимался в секции вольной борьбы, кандидат в мастера спорта.
– Научи меня так бороться! – попросил брат.
– Ладно, поучу.
– Только взаправду, а то обещал, когда сразу вернулся с фронта, да не собрался.
Глава 10. Патриций Герасим Иванович
Придя домой, семья пообедала. На сладкое на радость младшеньким на стол мать подала кулагу. Василий с любопытством воспринял это блюдо. В раннем детстве бабуля готовила его. Как будто розовая каша. Вася вспомнил, что знал о кулаге. Лакомство делали из ячменной или ржаной муки и солода. Для изготовления солода зёрна намачивали и проращивали. Шёл процесс ферментации – брожения, потом пророщенные семена ставили на ночь в протопленную русскую печь в закрытой посуде. Солод – древнее русское слово. «Солодкий» – значит, сладкий. Не зря растение со сладковатым корнем называется солодкой.
Все сведения об этом блюде промелькнули в голове. Но надо же и отведать. Василий зачерпнул ложкой, от удовольствия даже зажмурился. Вкус детства! Кулага умеренно сладкая, но с кислинкой. Неподражаемо! Вкуснотища! И витаминов полно содержит. Как же мы забыли про такое блюдо, удивлялся про себя Вася.
Взрослым налили по кружке домашнего пива. Василий вспомнил, что в его приготовлении тоже используют солод.
Когда уже заканчивали трапезу, хозяин крякнул и сказал:
– Эх, брат, опять чудит! И охота ему дурачиться…
– Дядя Герасим! – воскликнули младшие дети.
Василий взглянул в окно. Увидел то, что ему рассказывал Алексей Куропатов о своём прапрадеде Герасиме Ивановиче.
А история, помнится, весьма занятная.
– А ну, залётные, поддай жару! Расходись православные! Дай дорогу патрицию! – кричал в упоении Герасим Иванович Куропатов. Кричал он, восседая на носилках, которые бегом пёрли четыре мужика. У Куропатова развевался на ветру русый чуб, глаза небесного цвета сияли, улыбка топорщила кверху усы, борода торжественно торчала вперёд. Миновали одну улицу, пробежали мимо лавки купца Воскобойникова, понеслись вниз по другой улице, сходу одолели бугор, дальше скорость уменьшилась: пришлось бежать в гору. Село располагалось на холмистой местности. Встречавшиеся односельчане хохотали и говорили: "Опять чудит Иваныч!"
Сорокалетний Герасим Иванович начал чудить после того, как познакомился с книгой о древней истории, которую он взял почитать у учителя местной школы.
Особенно почему-то запали ему в душу сведения о том, как в глубокой древности египетских фараонов носили на специальных носилках. Но ещё интереснее ему показалось, что и в древнем Риме царей рабы носили, чтобы не осквернил верховный повелитель себя прикосновением с землёй. Да что там цари, оказывается, вообще вся римская знать передвигалась таким образом. «Вот паразиты!» – такой оказалась первая реакция Герасима. И дальше мысль развивалась в таком духе, что, мол, угнетали эти патриции плебеев, народ, крестьян то есть. И вдруг он читает дальше, что патриции – люди, которые изначально жили на земле предков. А плебеи – те, кто потом там поселились. Потому и земли у них оказывалось мало или совсем не было. И прав поменьше, чем у старожилов.
– Прах тебя побери! А ведь я живу на земле, на которой жили и деды мои, и прадеды, и прапрадеды! А сколько в наше село наехало мужиков из маленьких деревень, вот у них и наделы маленькие или совсем нет. Но кто же в этом виноват?! Стало быть, все старожилы – патриции, а приехавшие – плебеи!
Мысль сия поразила Герасима Ивановича. И он к ней многократно возвращался. Необходимо заметить, что в селе основное население занималось кузнечным ремеслом. В поле их жёнам часто приходилось трудиться одним. Куропатов отдавал свою долю в аренду «плебеям». Кузнецов там уважительно величали по имени-отчеству. Село в старину никогда не принадлежало помещику, жители имели статус государственных крестьян. Его жители всегда гордились своим положением.
С того времени, как Герасим познакомился с интересными сведениями по истории, у него в голове постоянно крутилось открытие, сделанное им для себя. «Я патриций!» – вдруг приходило ему на ум совсем некстати во время работы в кузнице или при уборке навоза в хлеву. И вот фантазия ему как-то подсказала попробовать прокатиться на носилках. Те, что стояли обычно возле сарая, не годились, так как использовались для уборки опять же скотского навоза. Тогда он сделал новые из струганых досок. Как-то на праздник опрокинул две рюмашки и пошёл по деревне. Нашёл четырёх плебеев, которым зверски хотелось выпить, да вместо денег у каждого была «вошь в кармане, да блоха на аркане».
Мужики, конечно, удивились странной просьбе односельчанина. Впрочем, только в первый момент. Затем с энтузиазмом приняли предложение. Герасим Иванович постелил на новенькие носилки красно-чёрно-белый коврик, узоры на котором напоминали ему изображения древних воинов, царей и прочих фараонов. И помчали плебеи сельского патриция вдоль по улицам. Какой русский не любит быстрой езды! Такие «выезды» стали повторяться.
Мальчишки всегда приходили в восторг при выносе «царственного тела» и бежали следом, образуя как бы почётный гвардейский эскорт. Почему же носильщики соглашались на унизительное, казалось бы, ношение односельчанина? Причина тому была веская: Герасим обещал им бутыль самогона, которая находилась у него дома. Вот и сейчас они, начав почётный выезд с одной горки, миновав ложбину, поднимались на другую гору, приближаясь к вожделенной цели.
Артём однажды стал свидетелем того, как дядю носильщики доставили домой, он вспомнил подробности и поведал семье о них, а Василий живо представил эту картину.
Вот, наконец, и дом фараона, то бишь патриция. Избу он выстроил с двумя входами-выходами: один в ограду, а другой – чистый, так сказать, парадный вход. Пробежав мимо высоких ворот, украшенных наверху коваными петухами, носильщики завернули за угол и поставили носилки с повелителем на широкое крыльцо. Отдуваясь и вытирая пот, стали ждать вознаграждения.
– Сегодня быстрее донесли, Герасим Иванович! – хихикнул Прошка, мужик со спутанными белёсыми волосами на маленькой голове, голубовато-серыми глазами, вздёрнутым носом и редкой бородёнкой. Один рукав на грязной рубахе у него был надорван.
– Ладно, нешто, молодца, молодца! – ответил важно Герасим. Встал не спеша, расправил широкие плечи, оправил новую косоворотку из синего сатина. Взошёл в избу. Мужики, улыбаясь в предвкушении удовольствия, убрали носилки за крыльцо. Появился хозяин с четвертью, полной мутноватой, как глаза Прошки, жидкостью.
– Оооо! – раздался одобрительный возглас мужичков.
– Ура-а-а! – дурашливо воскликнул Прохор.
– Пошли ко мне! – принимая огромную бутыль, пробасил Степан, здоровенный мужик с густыми волосами и большими глазами цвета корицы.
Максим Иванович рассказал кстати, какая однажды со Степаном вышла история. Когда-то Герасим выпивал с двумя дружками детства. Половину бутыли выпили, решили прогуляться вдоль села. Заткнули покрепче четверть пробкой, привязали к ней верёвку, к ней ещё две лямки и поволокли её за собой. Идут, горланят песни. При их виде веселится и ликует весь народ встречный. Увидел «бурлаков» Степан, не будь дураком догнал, отхватил ножом верёвку и побежал от них с криком: «Свободу бурлакам!» Кинулись друзья за ним, да не догнали. Правду сказать, не особо и старались бежать, рассудив, что целая голова на плечах всё-таки лучше упущенной «баржи». Больше Куропатов не "бурлачил". Да и пить с некоторого времени перестал, а угощать любителей зелья ему нравилось.
Счастливые, мужики потопали, унося заслуженную награду и оживлённо переговариваясь. Герасим Иванович с отрадой, многим не знакомой, смотрел на их удалявшиеся фигуры с высокого крыльца.
Глава 11. Судьба
Герасим Иванович Куропатов считался хорошим кузнецом. Частенько мужики звали его подковать коня. А дело это нелёгкое, требует напряжения, умения, сноровки и опыта. Дом Куропатов имел небольшой, усадьбу – небогатую. Зато владел ружьём и слыл заядлым охотником. И собаку держал верную. Пегая, лохматая, по кличке Стрельба. С ударением на первом слоге.
Эта Стрельба однажды спасла своему хозяину жизнь. Отправился как-то зимой Герасим Иванович в соседнюю деревню за три версты к куму в гости. Кум встретил очень радушно. На радостях употребили они изрядное количество горячительного напитка. Как ни уговаривал кум гостя остаться, тот отправился домой. А морозило тогда сильно. Шёл Герасим, покачиваясь, рассказывал что-то верной Стрельбе. А потом споткнулся, упал и подняться не мог. Заснул на обочине дороги. Стрельба пыталась растормошить хозяина. Когда из этого ничего не вышло, кинулась в село. Примчалась к дому, стала царапать дверь, лаяла, выла. Вышедшую хозяйку потянула за полу шубы. Привела её к мирно почивающему на снегу Герасиму.
А в охоте собака была весьма смышлёна. Поднимала зайцев и гналась за ними. И в охоте на водоплавающую дичь годилась: подбирала подстреленных уток на озёрах. Всему её хозяин научил.
Жена Куропатова сердилась на мужа за охотничью его страсть, которая иногда мешала работе, да за «вынос тела» её благоверного. Однако, несмотря на странности мужа, любила его. Одна только дочь была у них. Похожая на мать, с волосами, чёрными как ночь. Как будто про неё говорится в Некрасовской «Тройке»: «Сквозь румянец щеки твоей смуглой Пробивается лёгкий пушок, Из-под брови твоей полукруглой Смотрит бойко лукавый глазок». Держал её отец в строгости. Уговор с другом заключил: как подрастёт дочка, отдаст её в жёны за его сына. Да не удержал свою драгоценную. Полюбила она парня из соседнего села. Зимой посадил тот любимую в сани, и умчались они венчаться. Когда жена прибежала в кузницу с этой вестью, Герасим Иванович кинулся домой, схватил ружьё, запряг коня, прыгнул в сани и погнался вслед за беглецами. Настёгивал коня вовсю. Если бы настиг – застрелил бы вора. Однако влюблённые умчались уже далеко. Не успел отец помешать им венчаться. Потом смирился, простил непослушную дочь.
По прошествии нескольких лет сам Герасим рассказывал, улыбаясь в усы: «Мчусь, понимаешь, не замечаю, как от меня прохожие шарахаются, кто-то на санях еле увернулся от моего коня. Я, понимаешь, как Русь – птица-тройка, несусь, всё отстаёт и остаётся позади, на всех ужас наша скачка наводит, ветер гремит и рвётся на куски!»
Вот такую историю рассказывали о двоюродном прапрадеде Василия. А теперь он сам стал свидетелем явления «патриция».
Коробов начал толковать, что напрасно, мол, дядя так поступает. Как бы потом не обвинили его в издевательстве над народом.
– Кто обвинит? Да энти мужики только рады, что их Герасим водкой угощает! – вздохнул Максим Иванович.
Василий помнил, что ему рассказывали о дальнейшей судьбе «патриция» и его «рысаков».
Прошка, который когда-то с большим желанием участвовал в ношении Герасима Ивановича, оказался членом комбеда. Благодаря его стараниям Куропатова объявили кулаком, который эксплуатировал трудовое крестьянство, унижал достоинство бедняков. Вместе с женой Герасима сослали в Сибирь. Герасим Иванович вспоминал потом, как ехал в поезде, глядел на пролетающие леса, станции и полустанки, вспоминал детство, юность, молодость, любимую охоту и строки из «Псовой охоты» Некрасова: "Чуть не полмира в себе совмещая, Русь широко протянулась, родная! Много у нас и лесов, и полей, много в отечестве нашем зверей!" Это он потом родственникам расскажет о своих впечатлениях той лихой поры.
Через несколько лет пролетарский активист Прошка замёрзнет зимой пьяным в сугробе. Не найдётся никого, кто бы позаботился и спас его. Дочь Герасима Ивановича будет жить в соседнем селе, родит двух дочерей. В конце пятидесятых годов её родители вернутся на родину. Герасим Иванович проживёт 90 лет. Историю о нём будет рассказывать его племянница Нина своему сыну и внуку.
Куропатов всё говаривал, что племянница на него похожа: высокий лоб, цвет глаз, правильные черты лица, брови вразлёт. Вспоминала, как подвыпивший дядя толковал её отцу: "Мы патриции, мы опора державы!" Впоследствии её сын стал преподавателем истории в университете. Студенты не раз замечали, что во время лекций по древнеримской истории Алексей Дмитриевич начинает неудержимо улыбаться, а то и прыскать неожиданно, что вызывало у них ответную реакцию.
В Приречное к родственникам Алексей приезжал часто. Как-то, навещая сельское кладбище, он заметил, что могила прадедушки не ухожена, крест подгнил, покривился. Тогда он заказал мраморный памятник родственнику. На нём велел выбить:
"Патриций Куропатов Герасим Иванович".
И вот Василий Коробов, оказавшийся в роли Михаила, увидел воочию чудачества знаменитого родственника.
В тот день в гости к ним заходили двое бывших фронтовиков, звали к себе посидеть, поговорить «за жизнь». Но Василий отказался, сославшись на нездоровье.
Поздно вечером, когда управились по хозяйству, зашли в дом, сели ужинать. Тут дверь отворилась и через порог шагнул Герасим Иванович.