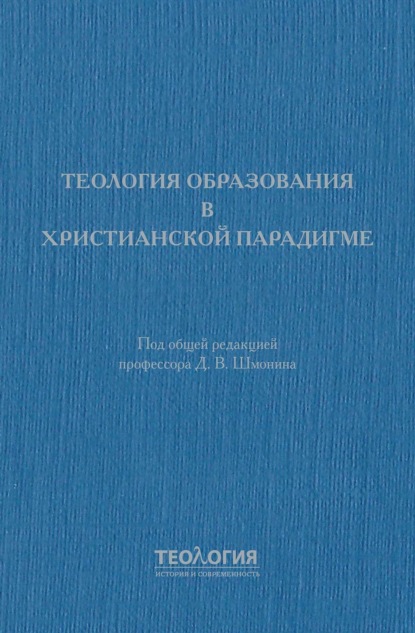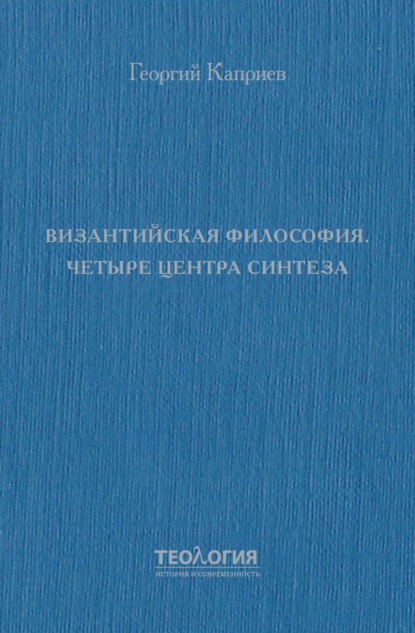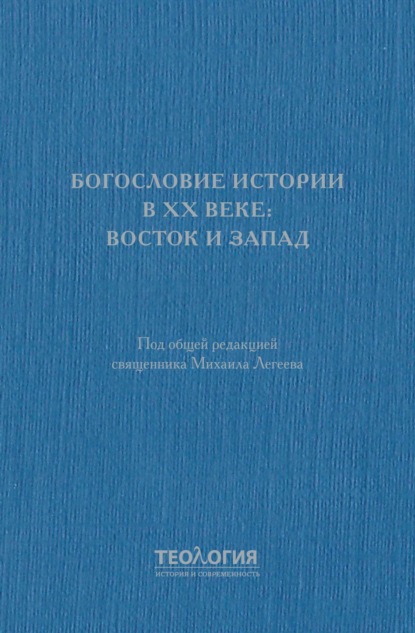Полная версия
Богословие и культура
Таким образом, Плотин указывает на некий, по-видимому, парадокс – соприсутствия нам высшего божественного начала и в то же время его «незаметности» для нас, его «не-данности» нам в актуальном переживании.
Нечто похожее находим мы и в том, как описывается духовное положение христианина, к примеру, у блж. Диадоха Фотикийского, церковного писателя V века. Так, в 77 главе своего «Аскетического слова» блж. Диадох утверждает: «Благодать… с самого мгновения, в которое крещаемся, скрывается в самой глубине ума, скрывая свое присутствие от самого чувства его»[125].
Богословско-полемический контекст этого утверждения раскрывается святителем в предшествующей главе и связан с мессалианской (или евхитской) ересью, отрицавшей решающее значение крещения в деле спасения. «Некоторые, – пишет блж. Диадох о еретиках, – предполагали, что «благодать и грех, т. е. Дух истины и дух обольщения, одновременно скрываются у крещаемых в уме… Но я из божественных Писаний и из самого чувства ума дознал, что до св. крещения благодать со-вне предрасполагает душу к добру, а сатана скрывается в глубинах ее, пытаясь заградить все правые исходы ума, но с того самого часа, в который возрождаемся (т. е. крестимся), демон выходит наружу, а благодать (входит) во внутрь. Отсюда находим, что как прежде господствовало над душою обольщение, так после крещения господствует над нею истина»[126].
Оставляя пока в стороне сакраментально-аскетологическую инаковость христианского духовного топоса неоплатонизму, отметим еще раз, что в том и другом случае дело идет о реальности глубинного соприсутствия человеку божественного начала («благодати») и, при этом, его «незаметности» или неощутимости. В случае христианского опыта названное «несоответствие» дополнительно обостряется тем, что самое понятие «божественной благодати» синонимично «действию» и, так сказать, со-именно «действительности» (и, казалось бы, «ощутимости») присутствия.
Но вернемся к Плотину, который в том же месте 5-й Эннеады, указав на соприсутствие нам «божественного» начала, продолжает: «Но ведь не все, что происходит в нашей душе, замечается нами, а лишь то, что, вызвав ощущение, становится ощутимо; когда же действие той или другой духовной энергии не поддается ощущению, оно, понятно, не сообщается всей душе, и мы не сознаем его, поскольку, измеряя все ощущением, забываем, что состоим не из одной этой части, но имеем целую душу»[127].
Итак, душа многомерна: и онтологическое соприсутствие нам высшего «божественного» начала, по Плотину, актуально-психологически (в «ощущении») остается для нас невосприемлемым, – покуда мера нашего восприятия, так или иначе, ограничена, – и собственной «частичностью», и тем, что чаще всего, как здесь же отмечает Плотин, «вторгается через внешние чувства».
Это несовпадение «целой души» с «ощущением», которым мы привыкли все измерять, по существу, вводит в духовную жизнь мотив тайны – фундаментальной несоразмеренности человека наличности его собственного сознания (συναισϑησις). Тем самым подготовлена почва для одинаково важной неоплатонизму и христианству темы «экстатичности» как со-природной и одновременно сверхприродной человеку формы его духовного устроения и осуществления. Правда, если в неоплатонической сотериологии «экстатичность» как способ обретения «божественного» серьезно приглушена (и как бы размыта) изначальной онтологической интериорностью «божественного», которое оказывается именно «присуще нам», то в христианстве, как мы уже могли видеть, эта самая «интериорность» (когда «благодать скрывается в глубине ума») является абсолютным Божиим даром, при всей полноте своего соприсутствия человеку, не подлежащим в отношении к нему онтологической имманентизации. Здесь человек призван – в просвет своего экстатического устроения – бесконечно трансцендировать к «божественному». Тайна человеческой природы преображается здесь в таинство благодати, судьбы космического универсума восходят в горизонт человеческой истории, одним из решающих участников которой оказывается и диавол.
Если у Плотина речь идет о различении иерархически расположенных уровней реальности, в том числе и «божественной», внутри человека, как соприродных ему, то в христианстве «человеческое» – и в силу своей тварности, и по факту грехопадения – нуждается в новом действии Бога, в сакраментальном «избытке» Его присутствия для того, чтобы взойти в «священный порядок бытия», по слову Дионисия Ареопагита, сказанному им о крещении.
Вернемся к нашему исходному вопросу о несовпадении «целой души» и «ощущения», который определенно поставлен и у Плотина, и у блж. Диадоха. «Поэтому, – продолжает названную тему Плотин, – если кто-либо хочет иметь ясное представление о том, что он есть и что происходит внутри него, тот должен туда обратить (ἐπιστρέφειν) все свои взоры, все свое внимание»[128].
«Внимание» (ἡ προσοχή), о котором идет здесь речь, является ключевой установкой стоико-платонической духовности, решающим способом достижения единства или корреляции с высшим универсальным божественным началом. «Внимание» представляет собой движение сознания к предельной сосредоточенности на своем внутреннем истоке (или основании), сопровождаемое нарастающей отрешенностью от внешнего мира и к нему обращенной чувственности. В самом широком смысле, «внимание» в античной традиции сопрягает в себе как известного рода знание определенных жизненных правил, так и конкретные нравственно-аскетические усилия, с помощью которых это знание реализуется, в конечном счете как свобода от страстей – απαθεια. «Ибо, – как завершает Плотин цитируемую нами 1-ю главу 5-й Эннеады, – мы должны отстранять от себя по возможности все то, что вторгается через внешние чувства, чтобы сохранить чистой и впечатлительной способность нашей души слышать и воспринимать голос, идущий свыше».
Итак, как очевидно отсюда, именно с помощью внимания человек способен актуализировать в себе присутствие высшего начала, явить его через отрешение от всего иного. Ведь, как сказано у Плотина в другом месте (Эннеады 6, 5, 12, 19), Универсальное – «Все присутствует в тебе в твоем отрешении; однако, если оно присутствует в твоем отрешении, но не является, когда ты остаешься с иными вещами, оно не приходит, чтобы присутствовать; но когда тебе кажется, что оно не присутствует, ты удалился от него. Однако, если ты и удалился, то не от него – ибо оно присутствует (независимо от тебя), – ты даже не удалился, но присутствуя (в нем) обратился (εστράφης) к противоположному»[129].
«Внимание» в существенной степени и есть «обращение» (или обращенность), и обращенность к Высшему выступает как некий нравственно-аскетический аналог или даже вариация той ἐπιστροφή, которая в онтологии Прокла уже со всей определенностью изъясняет и осуществляет процесс возведения множества к единству, следствий к причине, мира к Богу. Надо отметить, что как в онтологии, так и в аскетологии неоплатонизма в изъяснении (и осуществлении) того движения, которым отчужденное во множество бытие возвращается к своей Причине, господствует принцип непрерывности: так что сама ἐπιστροφή возможна лишь в силу сродства (пусть через среднюю природу, как и средний термин) того, что́ возвращается, тому, к чему оно возвращается. Если, по слову прп. Иоанна Дамаскина, «Бог отстоит (т. е. удален) от нас не местом, но природою»[130], то согласно Плотину, «удаленность» от Бога состоит в одной только нашей «обращенности к противоположному», к иному.
Связанная с данным обстоятельством особенность христианской аскезы вносит свою ноту и в тему «внимания», ключевую не только для эллинских аскетов, но и для монашеского делания Церкви. Нет нужды специально подтверждать это ключевое положение «внимания» в христианской аскезе: для многих, начиная со свт. Василия Великого, собственно библейский посыл к этой теме был задан словами из книги Второзакония (15:9): «Внемли себе: да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония». «Человек становится в Боге посредством внимания» – резюмирует данную тему прп. Максим Исповедник[131].
Но в этом общем с эллинской аскезой топосе есть у христианства свои, как мы сказали, особенности. Что касается блж. Диадоха, то у него «внимание» тесно связано и во многом совпадает с «памятованием» о Боге, этим «памятованием» ориентировано и в чисто аскетическом отношении служит, в первую очередь, осознанию человеком своих грехов. В 27 главе «Аскетического слова» блж. Диадох пишет: «Весьма немногим свойственно точное познание всех собственных преступлений и именно тем, которых ум ни в каком случае не исхищается от памятования о Боге. Ибо как телесные очи наши, когда бывают здравы, все могут видеть и даже комаров или мошек, пролетающих в воздухе, а когда покрываются затемнением или некоторою влажностью, если было бы что-либо великое то, с чем они встречаются, неясно видят это, а малого не ощущают чувством зрения; так и душа, если истончит вниманием слепоту, происходящую в ней из миролюбия, даже весьма незначительные преступления свои, считая как бы весьма великими, в великой благодарности неослабно прилагает слезу к слезе»[132].
Кроме того, в 17 главе Сотницы блж. Диадоха находим указание на «внимание» как средство обретения страха Божия, ибо «душа, пока остается без попечения и вся покрыта проказою сластолюбия, не может чувствовать страха Божия, даже если бы кто-нибудь непрестанно возвещал ей о страшном и могущественном судилище Божием. Когда же она начнет очищаться посредством сильного внимания, тогда, как некое лекарство жизненное, она ощущает страх Божий, сожигающий ее как бы в огне бесстрастия действием обличений. Почему, очищаясь потом постепенно, она достигает совершенного очищения, настолько преуспевая в любви, насколько уменьшается страх, чтобы таким образом достигала совершенной любви, в которой, как сказано, нет страха, но всецелое бесстрастие, воздействуемое славою Божиею»[133].
Очевидно из сказанного, что характер христианской аскезы, как он обнаруживается в связи с темой «внимания», существенно отличается от подобного опыта в языческой античности. Кроме упомянутого выше радикального онтологического различия между Богом и человеком, в силу которого именно их взаимо-инаковость (а не «сродство») оказывается первичным условием общения, – само это «различие» в христианской истории отягощено разделением или размежеванием уже как следствием грехопадения. «Различие» изначально задает персоналистичный характер отношениям Бога и человека, что, в свою очередь, делает более острым и драматичным и переживание разделения, того отчуждения от Бога, которое осознается – в данном случае, у блж. Диадоха – как преступление и вина, врачуемые страхом Божиим и памятованием о Страшном Суде.
«Вниманию» неоплатонической медитации, где дело идет, главным образом, об известной интеллектуально-психической технике, противостоит в христианской практике, в первую очередь, нравственно-религиозно мотивированное самоопределение, в котором «внимание» как техника руководимо и поглощено «памятованием» о Боге, неслучайно, в конечном счете, совпадающем с молитвой Иисусовой. «Ум, когда памятованием о Боге мы заградим все его исходы, – пишет блж. Диадох, – требует непременно от нас дела, долженствующего удовлетворять его влечению. Следовательно, для всецелого осуществления цели должно дать ему только: Господи Иисусе; ибо никто, говорит (апостол), не называет Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор 12:3). Путь он так именно рассматривает сие речение в сокровищницах своих, чтобы не уклониться ему в какие-либо мечтания»[134].
Надо отметить, что оформление традиции «умного делания» как Иисусовой молитвы (ко времени V столетия уже имеющей место) означало, в числе прочего, и преодоление внутри христианской духовности того платонизирующего спиритуализма, для которого «речения и деяния» евангельской истории не могли составлять ядро и опору молитвенного делания. Для блж. Диадоха соблазн мессалианского натурализма, с его стремлением пережить духовное чувственно-ощутительно, не давал, однако, повода отступать от места присутствия Божия в истории – от имени Иисусова – в область чистого умозрения.
С другой стороны, если Плотин освобождается от ограниченности психологического (с его фрагментарностью и поверхностностью) на пути интеллектуальной концентрации внимания, в каковом отрешенность от чувственности получает решающее значение, то у блж. Диадоха, в опыте такой «отрешенности», самое «влечение ума», его, так сказать, интенция, сохраняется как нечто оправданное. Но «для всецелого осуществления цели» влечение это должно быть направлено не в область «чувственного», хотя, в конечном счете, и не на самый ум, а – на Христа, к Нему обращено, с Его именем сплетено. Поэтому там, где у Плотина мы находим «внимание» как способ аскетического искусства, в исходном для нас тексте блж. Диадоха встречаем указание на «любовь» как экзистенциально бесконечно-более многогранное, чем какой бы то ни было аскетический прием сам по себе, условие Богообщения.
«… Когда кто-либо, – пишет блж. Диадох. – начнет со всем расположением (ἐϰπάσης προϑέσεως) любить Бога, тогда она (благодать) некоторым неизреченным способом, посредством чувства ума сообщает душе некоторую часть своих благ. Поэтому всецело желающий впредь твердо владеть этим приобретением приходит к желанию с великой радостию отречься от всех настоящих благ, чтобы таким образом приобрести ему то поле, в котором он нашел сокрытым сокровище жизни (Мф 12:44)»[135].
Выражение ἐϰπάσης προϑέσεως («со всем расположением») на библейском языке означает буквально выставление в храме священных хлебов, приносимых в жертву Богу. Тем самым, любовь, посредством которой душе сообщается благодать Божия, сближается здесь с образом и смыслом сакраментальной жертвы, из порядка естественного преобразуется в порядок священного, из природного – в историческое.
В плотиновской анагогии душа тоже движима любовью. «Души касается веяние, которое ей сообщает Благо. Она тотчас приходит в волнение, она вне себя, она полнится желаниями. Рождается любовь»[136]. Но любовь эта – энергия изначальной симпатии, выявление глубинной непрерывности, сопрягающей человека и Бога, а не та неслыханная новизна жертвы, которая – по образу Христа – и в человеческом подвиге собирает «расстоящиеся естества». У Плотина душа именно «естественным образом стремится ввысь, возвышаемая Тем, от кого получила дар любви»[137]. Естественно-процессуальное потесняет здесь уникальность и, так сказать, беспредпосылочность и необеспеченность личностного самоопределения, – невозможность опереться в нем на что-то, как бы то ни было, «свое». Неоплатоническая аскеза не нуждается в тотальности жертвы, как если бы ей нужно было превозмочь не только инерцию чувственности, но и дистанцию разлада. Ведь для Плотина, как отмечает Пьер Адо, «во всем окружающем переливается единая Жизнь, простая и светлая. Достаточно отстранить Формы, которые ее выражают и скрывают, чтобы она дала нам почувствовать свое присутствие»[138].
Если «дать почувствовать свое присутствие» – значит здесь, – явиться, быть выраженным для и посредством нашего сознания (συναίσϑησις), то, несмотря на все то, что было сказано в пользу искомости и желательности этого у Плотина, – надо принять во внимание и другую сторону дела. Ведь, в конечном счете, «сознание, – говорит Плотин в 1-й Эннеаде, – как бы ослабляет сопровождаемые им действия; отдельно от него они чище, в них больше интенсивности и жизни. Да, в бессознательном состоянии существа, достигшие мудрости, ведут более интенсивную жизнь. Эта жизнь не распространяется до уровня сознания, она концентрируется в самой себе»[139].
В. В. Бибихин по поводу этой главы 1-й Эннеады пишет: «Из того, что ум и его душа способны воспринимать (сознавать), еще не следует, что они перестают действовать с прекращением движения восприятия. «Действие ума должно иметь место до восприятия», говорит Плотин, повторяя уравнение Парменида. Осознание этого «действия» возможно. Душа может прийти в гладкое и зеркальное, тихое, безмолвствующее состояние (ἡσυχία, исихия); в ней тогда появятся верные отображения (ἐιϰονίσματα, иконы) дианойи и ума, и в безмолвной тишине, сама тоже покоясь, она ощутит «первым знанием», как действует мысль. Но для Плотина и это высшее состояние сознания не обязательно. Ум есть и действует без этих своих отблесков в душе. Больше того, они уменьшают его энергию. «Отражения грозят сделать сами энергии более слабыми. Энергии глубже проникают и дарят больше жизни и счастья, когда не разлиты, не размазаны по чувствованию (отражению, сознанию), а собраны в своей простоте»[140].
Эта «необязательность сознания» у Плотина, конечно, заметно диссонирует с тем достоинством, которое усваивается, к примеру, у того же блж. Диадоха, «чувству ума». Минуя, по необходимости, достаточно длительную и многозначительную историю этого понятия «умного (или – духовного) чувства» в христианской традиции, напомним хотя бы о предельно ярком, почти провокационном, истолковании его смысла у прп. Симеона Нового Богослова. «Если… кто говорит, – утверждает прп. Симеон, – что каждый из нас, верных, принял Его (Духа Святого) без познания и без чувства, он кощунствует… Если же это… совершается в нас без нашего ведома, причем мы не чувствуем ничего из всего этого, то совершенно ясно, что мы совсем не получим ощущения и вечной жизни, которая следует за этим и пребывает в нас, не увидим также и света Святого Духа, но останемся мертвыми и слепыми и бесчувственными, как сейчас, так и тогда»[141]. «Ощущать благодать, – подытоживает эту тему архиеп. Василий (Кривошеин), – и быть просвещаемым ею в ведении и созерцании является для прп. Симеона до такой степени существенною чертою христианина, что тот, кто еще не получил сознательного видения, не может носить это имя»[142]. Максимализм прп. Симеона не отменяет, однако, той духовной осторожности и взыскательности к «ощущениям и созерцаниям», которые всегда сохраняют первостепенное значение в христианской аскезе. Интересно, что тот же блж. Диадох, предостерегая от поиска «ощущений и видений», самый мотив полноты «чувства» связывает, в первую очередь, с образом духовного устроения подвижника, а не с самим опытом восприятия благодати. «Итак, – пишет он, – не должно кому-либо в этой надежде (видений и ощущений. – А. М.) проходить аскетическую жизнь, чтобы вследствие этого сатана не нашел душу готовую к увлечению, но чтобы мы поспешили только во всяком чувстве и удостоверенности сердца возлюбить Бога, то есть “всем сердцем и всею душою и всем помышлением” (Лк 10:27)»[143].
Кроме того – и это особенно важно в плане соотношения с неоплатоническим изводом темы «сознания», – понятие «духовного чувства» в христианской традиции не вписывается в границы физикалистического содержания, – оно указует на вышеестественное. Само, противоречивое для физикалистического мышления сочетание «духовности» и «чувственности» в оксюмороне «духовное чувство» отсылает к новому образу устроения человека, о котором свт. Григорий Палама напишет, что в нем святые «преображаются силою Духа; они получают способность, которой не имели прежде; они становятся Духом и зрят в Духе»[144]. Напомним, что, в отличие от платоников, в под-основе этого «видения святых» – не сродство, не симпатия, а фундаментальное различие, онтологическая инаковость Бога и человека. Блж. Диадох, имея в виду это ключевое размежевание с эллинскими мудрецами, ограничивает духовный опыт последних пределами самопознания. «Когда душа, – пишет он в 74-й главе Аскетического слова, – придет в самопознание, то из себя самой производит некоторую боголюбивую теплоту, потому что она, не будучи смущаема житейскими заботами, производит некую любовь к миру (ἐιρήνης), соразмерно ищущую Бога мира. Но это скоро рассеивается, или когда память предается чувствами, или также, когда природа очень скоро, по причине бедности, издерживает собственное благо. Потому Эллинские мудрецы не обладали, как должно было, тем, чего думали достигать чрез воздержание вследствие того, что ум их не воздействовался вечною и всегда истинною мудростию. Теплота же, приносимая в сердце Святым Духом, прежде всего мирна и неослабна, и все части души призывает к любви к Богу, и не развеивается вне сердца, а скорее чрез него всего человека увеселяет в некой беспредельной любви и радости»[145].
Но если даже отвлечься от этого различия в источниках и природе той и другой (христианской и эллинской) духовности, – проигнорировать радикальность их взаимоотчуждения не окажется возможным вот еще по какому поводу. Дело в том, что в исходных для наших наблюдений текстах Плотина (Эннеады 5, 1, 11, 12) и блж. Диадоха (Аскетическое слово, гл. 77), в тематической полноте их воспроизведения, бросается в глаза существенная диспропорция. Текст блж. Диадоха не заканчивается указанием на вершину духовного переживания, когда «соответственно преуспеянию души и божественный дар являет уму свою благость». Ибо тогда-то именно, когда подвижник восчувствует действие благодати, «тогда, – говорит блж. Диадох, – Господь попускает, чтобы душа была более беспокоима демонами, дабы должным образом научить ее различению и добра и зла и сделать ее смиреннее, вследствие того, что, когда она очищается, в ней является великий стыд от нечистоты демонских помыслов»[146].
Духовная зрелость христианского подвижника оказывается соотнесенной здесь не с каким бы то ни было, пусть и вполне бесспорным, опытом Богообщения самим по себе, но – с готовностью, в самой глубине этого опыта, оставаться открытым, сохранять в себе зрячую уязвимость к агрессии зла, к возможности нравственного и физического страдания. «Смирение» и «стыд», в этом случае показывают – кроме всего прочего – безраздельную ответственность души, ищущей всецело предать себя в руки Божии, за все, что так или иначе стало содержанием ее жизни.
И какие бы аналогии из опыта неоплатонической аскезы не приходили нам на память, все они, как нам кажется, будут существенно ослаблены плотиновским учением о «высшем» и «низшем» уровнях души, экзистенциальная резмежеванность которых позволяет приглушить, смягчить или даже снять вопрос об ответственности за зло. «Итак, – говорит Плотин в 1-й Эннеаде, – природа той (т. е. «высшей». – А. М.) нашей души не будет ответственна за зло, которое совершает и претерпевает человек. Все это происходит на уровне “животного”, “смешанного” начала, то есть в той области, где низшие уровни души соединяются с телом»[147].
Онтологический порядок реальности у Плотина сам по себе освобождает верховное «я» человека от ответственности за происходящее с душою в низших сферах существования. Но такая, самой природе духа необходимо сопутствующая, свобода ничего не хочет знать об истории духа – о драме вины и прощения, о неизбывном «излишке» воли, сопровождающем движение творения от начала к концу. А в такой истории, которая становится возможной только в горизонте христианского Откровения, свобода совпадает с ответственностью.
Слово в христианской традиции
При всей, как будто самоочевидной значимости слова (и словесности вообще) в христианской традиции, надо принять во внимание, что, к примеру, ей пограничная традиция греческой античности словесна ничуть не меньше и словесна гораздо более последовательно и гармонично. Греческая культура сравнительно непротиворечиво и существенно оформлена словом, податлива к нему: и эстетически, и политически, и философски. «Зрелищность», наглядность, пластичность, как известные характеристики этой культуры, располагали и к словесно-выразительной описательности – к философско-логическому и риторическому экфрасису бытия. Сократ в платоновском «Филебе» (64в) говорит: «Теперешнее рассуждение кажется совершенным, точно некий бесплотный космос, прекрасно властвующий над одушевленным телом»[148]. И в софистической склонности к «номинализму», и в «реализме» платонизирующей мысли слово сохранило-таки свою действенность, свою идеально и социально понимаемую «истинность».
Христианская традиция находится в гораздо более противоречивом, но и более глубоком отношении к слову и со словом. С одной стороны, даже стоическая универсализация Логоса оказывается лишь смутной тенью, неадекватно предваряющей христианское Откровение о Боге-Слове, Который, «не оставляя» Своего трансцендентного Божества, становится «осязаемым» (1 Ин 1:1) в реальности воплощения; с другой стороны, именно в силу радикальности присутствия Самого Божественного Слова в самой человеческой истории всякое человеческое слово, самая стихия словесности как бы «онемевает» – опознается и в своей немощи и даже в своей потенциальной соблазнительности. Новозаветное благовестие в значительной степени развертывается как слово, звучащее изнутри опыта и сознания этой несоизмеримости события Божественного присутствия и возможности высказаться о нем на языке человеческом. Евангелие от Иоанна завершается признанием Апостола, что «если бы писать… подробно [о деяниях Христа], и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин 21:25). И речь здесь, конечно, о качественной именно несоизмеримости «мира» и Благовестия. Апостол Павел неоднократно подчеркивает, что послан «благовествовать не в премудрости слова», что «слово и проповедь [его] не в убедительных словах человеческой мудрости…» (1 Кор 1:17; 2:4).