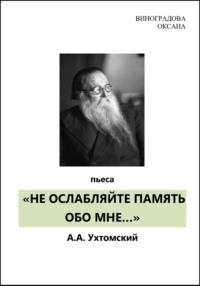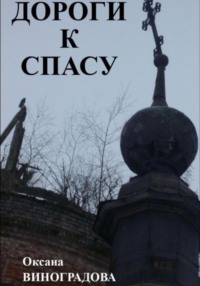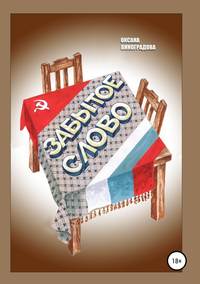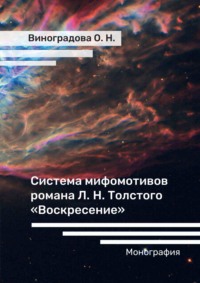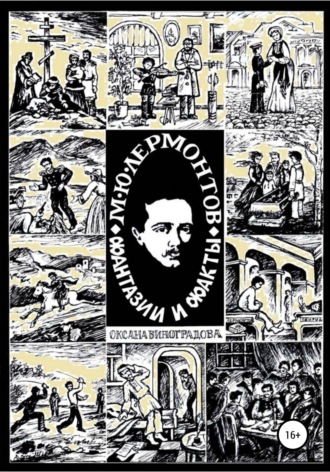
Полная версия
М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты
Ну а далее последовали события, которым трудно было противостоять.
«В 1974 г. в район, с бумагой за подписью Председателя Совета Министров РСФСР М.С. Соломенцева, приехали представители музея «Тарханы» во главе с директором В. Арзамасцевым и на основании предписания правительства произвели эксгумацию…
«Осенним днём 1974 г. в Шипово прибыла необычная экспедиция. В её состав входили директор Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» В. Арзамасцев, зав. отд. музея Л. Злобина, нач. Липецкого обл. бюро судебно-медицинской экспертизы кандидат медицинских наук А. Мовшович…». Разрешение на перезахоронение дал Липецкий облисполком.
Вся эта компания намеревалась совершить кощунство – потревожить прах преданного земле православного человека, а в итоге разрушили не один десяток могил.
А.А. Мовшович долгое время умалчивал о событиях поздней осени 1974 г. Действительно – не дай Бог такому повториться! «Стоял конец ноября, было пасмурно и влажно. Время от времени моросил дождь… Был вскрыт склеп с останками женщины… Мы продолжали искать. Бульдозер наткнулся на второй склеп, в котором были останки мужчины. Кирпичный этот склеп находился на глубине около трёх метров…». До того как найден был склеп с захоронением мужчины, было вскрыто несколько женских погребений, после чего незадачливые промёрзшие гробокопатели, согревшись известным способом, пустили по кладбищу бульдозер! Трудно представить, сколько ещё могил было разворочено, чтобы докопаться до глубины 3-х метров?!
Находка склепа и останков мужчины всех обрадовала, и так как другого ничего не нашли, покойника, без всяких на то оснований, идентифицировали как Ю.П. Лермонтова.
Как сообщил 4 августа 1937 г. сотруднику музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске М.Ф. Николевой бывший настоятель Успенской церкви села Шипово отец Сергий Богоявленский: «Знаю, что он схоронен под полом в церкви села Шипова, в настоящей ея части, у амвона, прямо против иконы Святителя, но памятника никакого на его могиле не было, так как она находится в самой церкви».
Это документальное утверждение очевидца полностью опровергает опубликованный издательством «Воскресение» «Протокол эксгумации трупа Юрия Петровича Лермонтова, произведенной 23-24 ноября 1974 года» (из дел бывшего Липецкого обкома КПСС). Скорее всего, обнаруженные останки мужчины, захороненного у наружной стены храма в селе Шипово, перевезенные В.П. Арзамасцевым в 1974 г. в Тарханы и выдаваемые им за останки Юрия Петровича, принадлежат мужу тетки М.Ю. Лермонтова – Виолеву, а разрытые комиссией два женских погребения – останки сестер отца поэта – Натальи Лермонтовой и Елены Виолевой.
То есть захоронение Ю. П. Лермонтова, вероятно, осталось в Шипово54.
Дополнение к тексту: Сергей Алексеевич Богоявленский являлся настоятелем храма Успения Божией Матери в селе Шипово с 1906 по 1924 год55. Свои показания о месте захоронения Ю.П. Лермонтова священник давал в 62-летнем возрасте: не тот возраст, чтобы не знать и не помнить, кто покоится под полом храма, где служил почти 20 лет. Муж тетки М.Ю. Лермонтова – Петр Васильевич Виолев (13.06.1801 – 7.08.1855), надворный советник. Однако он умер и похоронен в Москве в Спасо-Андрониковом монастыре56.
Как могла могила Юрия Петровича оказаться под полом храма? В храме «в 1855 г. устроенный во втором этаже над трапезной придел во имя Архистратига Михаила был уничтожен и 1874 г. перенесен в самую трапезную, которая предварительно была разобрана, вновь устроена в большем размере и сделана теплой»57. Таким образом, при условии перестройки храма, захоронение вполне могло оказаться под полом церкви.
А вот как описывает поиск и извлечение из земли останков Ю.П. Лермонтова липецкий писатель-ученый А.В. Коновалов:
Приход этой церкви имел два кладбища – старое и новое. Вышедшие из автобуса рабочие остановились у старого. Их уже поджидали директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тарханы» Пензенской области Валентин Павлович Арзамасцев, а также член бюро, второй секретарь Становлянского райкома КПСС, бывший главный редактор Становлянской районной газеты «Звезда», далеко известный за пределами Липецкого региона литературный краевед Владимир Федорович Топорков. <…>
Руководитель музея-заповедника из села Лермонтово, которое получило такое название в 1917 году от села Тарханы, пояснял:
– По данным Тульского краеведческого музея захоронение Юрия Петровича произошло у стены вот этой церкви юго-восточнее алтаря, – он как литературовед и кандидат исторических наук, казалось, всматривался в каждую неровность, чем-то напоминающую могильный холмик возле храма.
– Но тут нет ни единого надгробья или какого-то другого знака, что указывало бы хоть на какое-то захоронение, – рассуждал Топорков, разглядывая место, на которое указал Арзамасцев.
– Что вы предлагаете? – спросил озабоченно представитель музея.
– Не знаю, – признался откровенно Владимир Федорович.
Арзамасцев достал из папки, которая была в его руках, листок бумаги.
– Я хочу вам, товарищи, зачитать выписку из церковной книги, которая сейчас хранится в Тульском краеведческом музее. В ней говорится: «В октябре первого числа 1831 года погребен на отведенном кладбище юго-восточнее алтаря корпус капитан Юрий (Евтихий) Петров Лермонтов, военнослужащий, вдовый. Умер от чахотки». Эту запись засвидетельствовал священник церкви Успения Пресвятой Богородицы Николай Корнильский-Соболев. Потому сомнения нет, что место захоронения отца великого поэта находится где-то здесь, – пензенский гость вновь неопределенно обвел рукой пространство вокруг себя.
Воцарилась тишина. Ее прервал один из механизаторов:
– Так, где рыть-то будем? – складывалось впечатление, что ему было все равно, где дать работу рукам и лопате, лишь бы расчет получить как можно быстрее. Вид у него был явно после «укуса» вчерашнего «зеленого змия».
Ему никто не ответил. Топорков поинтересовался:
– Валентин Павлович, но здесь, видимо, было погребение не только отца Михаила Юрьевича?
– Безусловно. По нашим сведениям, тут захоронены отец, мать и сестры Юрия Петровича, – ответил уверенно Арзамасцев. Ему, как и Топоркову, на вид было чуть более тридцати лет, но он уже с 1966 года руководил музеем-заповедником, прекрасно знал родословную Лермонтовых.
– Тогда по каким приметам мы определим останки Юрия Петровича почти через полтора века после его смерти?
Топорков отличался тем, что в своей бывшей редакторской работе не упускал ни одну мелочь, если это касалось жизни его земляков-писателей. И хотя по образованию он биолог, но по призванию был фанатичным литературным краеведом. А что связано с селом Шипово, тем более. Ведь он собирал очень скупые сведения о жизни и творчестве еще одного замечательного писателя, которого почему-то крайне редко вспоминают на становлянской земле, – Николая Васильевича Успенского, творчество которого в свое время в журнале «Современник» высоко оценил Некрасов, назвав его «крестьянским трибуном». Лестные отзывы о рассказах Успенского написали Добролюбов, Тургенев, Толстой, Григорович. А вот в этой церкви, рядом с которой они стояли с Арзамасцевым и механизаторами, в сороковые годы XIX столетия проводил службы его отец – священник Василий Яковлевич, и куда в детские и юношеские годы, безусловно, заходил будущий прозаик.
– Есть у нас сведения из различных источников, что Лермонтова положили в гроб в костюме защитного цвета – скорее всего, в военном мундире. На день смерти он был с бородой и усами. Знаем, в каком возрасте умер…
– И все? – не унимался Топорков.
– Других данных у нас, да и, наверное, у вас нет…
– Конечно, – сухо подтвердил Владимир Федорович.
– Что будем делать? – уже нетерпение проявлял Арзамасцев.
– Копать, где вы показали, – сказал Топорков, он был ответственным представителем от области и района на процедуре вскрытия могилы. – Командуй своими орлами, Николай Александрович, – обратился он к Селеверстову.
Через некоторое время лопаты начали вгрызаться в землю.
Стояла погожая осень 1974 года58…
Сведения можно дополнить краеведческой работой, выполненной выпускницей Т. Галкиной под руководством Т.Н. Ильиной. Молодая исследовательница пишет:
…из акта проведения раскопок у церкви с. Шипово Становлянского района Липецкой области, черновик которого хранится в архивах музея клуба «Парус», я узнала следующее. 23-24 ноября 1974 г. комиссией по организации перезахоронения праха Юрия Петровича, отца поэта, в составе директора Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Арзамасцева В.П., зав. экспозиционным отделом музея Злобиной Л.В., археолога и научного сотрудника Пензенского областного краеведческого музея Полесских М.Р., главного начальника Пензенской области Бюро судебной медэкспертизы Митрофанова Ю.И., в присутствии начальника Липецкой области Бюро судебной медэкспертизы Мовшовича А.А. и экспертов этого же бюро была произведена эксгумация захоронения, расположенного возле церкви с. Шипово. Как видим, комиссия была вполне компетентной, чтобы сделать определенные выводы.
Раскопки были начаты около фундамента юго-восточной стены шиповской церкви, согласно данным из метрической книги. На глубине 2 метров обнаружили склеп кирпичной кладки с женским захоронением (его тоже исследовали), а затем – с мужским.
«Склеп с мужским захоронением располагается на расстоянии 1,8 м от алтарной части церковной стены под углом 75° к восточной стене южной паперти. Все стены склепа, как и свод его, не были разрушены. Когда вскрыли свод, в склепе обнаружили деревянный (сосновый) гроб».
В акте дается подробное скрупулезное описание с указанием точных размеров в сантиметрах не только наружной части захоронения (склепа, гроба), но и всех деталей, сохранившихся внутри гроба. <…> Далее читаю: «После вскрытия склепа одежда выглядела более яркой по цвету, более светлой, пиджак, сюртук, брюки – коричнево-желтого цвета, бабочка, более жѐлтая, венчик на лбу и рюшь на подушке золотистого цвета. Светлее выглядела лента на кресте, складки одежды расправлены… При дальнейшем осмотре в бюро судмедэкспертизы складки одежды запали, одежда потемнела». Вероятно, изменения произошли, потому что была нарушена герметичность, благодаря которой останки хорошо сохранились. (Ведь 143 года прошло со дня смерти Юрия Петровича к моменту раскопок!).
При осмотре зубов черепа эксперты Митрофанов Ю.П. и Мошкович А.А., проконсультировавшись с московскими специалистами, пришли к выводу, что найдены останки мужчины в возрасте от 40 до 50 лет (Юрию Петровичу, когда он умер, было без трех месяцев 44 года)59.
Таким образом, для установления принадлежности останков требовались три вещи: мужчина, одежда и возраст. Одежда и возраст варьируются.
Думается, крайне мало данных для идентификации.
Сейчас села Шипово нет. Остались руины церкви. Внутри нее установлен крест (и некоторые краеведы полагают, что именно там истинное захоронение Ю.П. Лермонтова), а рядом – памятная плита на том месте, где покоились останки, перевезенные в 1974 году в Тарханы.
Затрагивая вопрос даты и места захоронения Юрия Петровича Лермонтова в данной работе, хотелось бы лишь обратить внимание на то, что 1) оригиналов документа о смерти Юрия Петровича Лермонтова нет, 2) идентификация останков Юрия Петровича Лермонтова спорна. Это факты. И если последний не столь важен для понимания биографии Лермонтова, то найденный оригинал метрической записи о смерти Юрия Петровича направил бы мысли о причине пропуска Михаилом Юрьевичем экзаменов в иное русло. А пока что смерть отца – наиболее вероятное объяснение того, почему Лермонтов отсутствовал в мае на экзаменах.
Теперь вопрос другого плана: был ли Михаил Юрьевич на похоронах отца? Если был в начале октября 1831 года, то он должен был отсутствовать в университете. Октябрь – самое горячее время для учебы. Вряд ли отсутствие Лермонтова на занятиях было бы неприметно. После похорон Лермонтов должен был бы находиться если не в подавленном состоянии, то, по крайней мере, не в приподнятом. Но биографы Лермонтова нам сообщают, что он в ноябре пребывает в состоянии влюбленности в Варвару Александровну Лопухину, а через два месяца после смерти отца является на маскарад, для которого готовился заранее и писал мадригалы и эпиграммы. Говорят еще исследователи, что в 1831 году Лермонтов сочинил стихотворение «Ужасная судьба отца и сына», и это доказывает факт смерти отца поэта в 1831 году. Вряд ли. Например, есть стихотворение «Эпитафия», из которого делают вывод о том, что Лермонтов присутствовал на похоронах отца. Но это стихотворение уже в 1830 году было в черновых тетрадях поэта60. А стихотворение «Смерть поэта», принесшее славу Лермонтову и написанное на смерть А.С. Пушкина 29 января 1837 года (по ст. ст.), на самом деле датируется 28 января61.
Здесь можно высказать следующее соображение: Юрий Петрович угасал медленно и неуклонно как минимум с момента написания им завещания. А скорее всего, еще раньше. Для родных его смерть не могла быть неожиданностью, и Михаил, возможно, иногда представлял себе близкое упокоение отца. Вероятно, Юрий Петрович не раз ездил в Москву не только с целью свидеться с сыном, но и уладить бумажные дела: он готовился к смерти.
Если же Юрий Петрович Лермонтов умер в начале мая 1832 года, то это объясняет многое. В первую очередь – отсутствие Михаила Лермонтова на экзаменах в мае 1832 года. И то, почему никто из однокурсников не был посвящен в случившееся. Косвенно эту теорию подтверждает документ от 20 мая 1832 года:
Тульское дворянское депутатское собрание выдало «отставного Первого кадетского корпуса капитана Юрия Петрова Лермантова сыну малолетнему Михайле Лермантову копию с определения о внесении их в дворянскую родословную Тульской губернии книгу».
Этому предшествовало «Тульскому губернскому предводителю Елецкого помещика подполковника и кавалера Григорья Васильевича сына Арсеньева прошение», в котором говорилось, что «после смерти… капитана Юрия Петровича Лермантова остался сын Михайла, достигший уже до 18-летнего возраста». Просьба внести его «в дворянскую родословную книгу Тульской губернии»62.
Если Юрий Петрович умер в мае 1832-го, то Лермонтов мог выехать из Москвы еще до смерти отца (если предположить, что родственники известили о тяжелом состоянии Юрия Петровича) и присутствовать при его кончине и на похоронах. Скрупулезные краеведы, в рядах которых опять ученики под руководством опытных учителей, пишут:
О том, что Михаил Юрьевич был на похоронах отца, писал в своих воспоминаниях наш земляк, уроженец деревни Липовки, впоследствии доцент Астраханского медицинского института Вепренцев Иван 63.
Вообще-то трудно представить, что Михаил Лермонтов не присутствовал на похоронах отца. Думается, присутствовал. И, очень вероятно, с бабушкой и тетями по отцу. А потом, возможно, с помощью родственников готовил бумаги, чтобы вступить в наследство, подтвердить «справки» о дворянстве, которые не успел по состоянию здоровья собрать отец… Известен документ от 20 марта 1834 года:
Ревизская сказка «Тульской губернии Ефремовского уезда сельца Любашевки, Каменной верх тож, дворянина Михайлы Юрьева Лермонтова о состоящих мужеска и женска пола дворовых людях и крестьянах, доставшихся по наследству в 1832-м году…итого мужеска пола налицо 148 душ…женска пола 155 душ»64.
Т.е. наследство от отца досталось М.Ю. Лермонтову в 1832 году. Вступить в наследство в то время можно было сразу же после смерти завещателя в течение года.
Все-таки версия о том, что Юрий Петрович Лермонтов умер весной 1832 года, не такая уж невероятная…
Если ее принять, то далее, возможно, события развивались так: вернувшись в Москву после смерти отца, Лермонтов узнал, что курс обучения ему не зачли и к экзаменам на индивидуальных основаниях не допустили. Посоветовавшись с бабушкой и родными, решил просить перевод в Санкт-Петербургский Императорский университет, который руководствовался уставом Московского университета. (Хоть и полагал П.А. Фролов, что тиран-бабушка Е.А. Арсеньева стремилась принимать все решения единолично, нельзя думать, что судьбоносные решения в семье принимались без активного участия М.Ю. Лермонтова и советов с родственниками). Не так давно ученые обнаружили новые сведения о друге Лермонтова – Алексее Александровиче Лопухине, о котором в Лермонтовской энциклопедии известно было лишь то, что он служил в типографии Синода в должности прокурора. Так вот,
…Лопухин в мае 1830 г. становится студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. А с февраля 1831 г. он начал учиться в Московском университете на словесном отделении, куда с нравственно-политического уже перевелся Лермонтов65.
Далее Лопухин успешно завершил образование в Москве. Таким образом, видим, что перевод студента из Петербурга в Москву был реален. Не поступок ли А.А. Лопухина подтолкнул Лермонтова к мысли просить перевод?
Возможно, кто-то обнадежил Арсеньеву. Лермонтов «забрал документы», как бы сейчас сказали, из Московского университета. Увы.
В Санкт-Петербурге не согласились на перевод, не согласились даже допустить Лермонтова до экзаменов на просимый курс (может, руководство сочло «дистанционное» обучение в холерный год недействительным?). Предложили начать с первого курса.
Сказать, что М.Ю. Лермонтов был расстроен, – ничего не сказать.
М.Ю. Лермонтов в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
На семейном совете решили, что самый краткий путь к устойчивому положению в обществе – Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Эта школа была привилегированным военно-учебным заведением, где у Лермонтовых имелись родственные связи. Учеба там занимала «всего» два года, после чего открывались возможности для быстрой карьеры и скорой выслуги лет.
В ноябре 1832 года Лермонтов держит экзамены в юнкерскую школу, по результатам которых успешно (а иначе и быть не могло) зачислен унтер-офицером лейб-гвардии Гусарского полка. Похоже, поэта не страшила военная служба. Что его занимало в момент неожиданного поворота в судьбе – так это беспокойство о том, чтобы служба не помешала творческой работе: об этом Лермонтов сообщал в письме к А.А. Лопухину66.
Не проучившись с момента поступления и месяца, Лермонтов получает травму от лошади во время упражнений в манеже, и до апреля 1833 года живет (и дистанционно учится, как бы сейчас сказали) дома у бабушки. Учится, вероятно, опять же успешно, так как уже в декабре производится в юнкера.
Вернувшись в стены школы в апреле 1833 года, Лермонтов держит высокий уровень образования. Вспоминали, что он имел при себе учебник Перевощикова «Ручная математическая энциклопедия» и часто в него заглядывал67. Позже, кстати, знакомые поэта вспоминали, что он любил показывать в компании математические фокусы. 19 июня 1833 г. Лермонтов пишет М.А. Лопухиной письмо, где есть следующие строки:
…Надеюсь, вам будет приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс, и теперь один из первых. Это все-таки подает надежду на близкую свободу!68
Один из первых.
Михаил Юрьевич не без основания выделяется среди окружения. В своих автобиографических бумагах Николай Соломонович Мартынов, поступивший в юнкерскую школу годом позже (его брат Михаил учился с Лермонтовым на одном курсе), оставил запись о Лермонтове:
Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно69.
По уму, по воспитанию, по любви, которой окружали его близкие, Лермонтову не было равных.
И вот тот уровень восприятия мира, на который Лермонтову удалось взойти, оказывается в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров под угрозой. Мишель, любимый внук Арсеньевой, к которому, говорят, она посылала ежедневно гостинцы рано поутру с тем, чтобы Мишенька проснулся до боя барабанов, дабы не повредить нервную систему (прошу прощения, не помню, в какой работе упоминается этот слух, которому охотно верится. – О.В.), оказался в атмосфере, где царила ужасная распущенность нравов. В том обществе, в котором оказался Михаил Юрьевич, следовало поддерживать репутацию лихача, склонного к постоянному пьянству и половому сношению, причем не только гетеросексуальному. А тут репутация «бабушкиного внука». Волей-неволей Лермонтову пришлось «надеть маску» разудалого юнкера, причем, чтобы иметь возможность беспрепятственно выражать любовь к бабушке, надо было казаться разудалей обычного.
Лермонтов два года учебы в Школе писал тайно, не читал и не показывал своих работ окружающим. Великий талант и стремление творить временно трансформировались: место живописи заняла графика (карикатуры и шаржи), а вместо лирических стихотворений на свет появились порнографические поэмы и стихи. Исключение составляют произведения, написанные Лермонтовым по заданию преподавателя словесности В.Т. Плаксина: это поэма «Хаджи Абрек» и сочинение «Панорама Москвы». В.Т. Плаксин высоко оценил способности ученика.
Окончательно формируется черта характера поэта, которая помогла ему выжить в Юнкерской школе и которая стала до конца жизни неким «панцирем» Лермонтова, защищавшим его тонкую и ранимую душу. Так, многочисленные воспоминания свидетельствуют, что Лермонтов часто бывал весел, шутил, смеялся, иронизировал. Смех его переходил в сарказм, когда дело касалось неприятных и неискренних людей, переходящих с ним на фамильярность. Но при этом в письмах к друзьям и родным Лермонтов поразительно искренен и открыт (иногда до неприличия) и останется таким навсегда.
В Школе издавался рукописный журнал «Школьная заря», куда юнкера анонимно присылали произведения для публикации. Авторство установить не представляло труда. Лермонтов написал три поэмы: «Гошпиталь», «Петергофский праздник» и «Уланшу» и некоторые стихотворения в этом же духе. Продолжая «традиции», прослеживающиеся в «Гаврилиаде» А.С. Пушкина и в «Сашке» А.И. Полежаева, Лермонтов от эротики переходит к порнографии, по мысли соглашающегося с Б. Эйхенбаумом В.Г. Бондаренко70, что в принципе верно.
Более того, Лермонтов описывает имевшие место действительные события, факты, сообщает имена участников. Эти «действующие лица» впоследствии заняли высокие посты. А Лермонтов стал великим поэтом и увековечил их «славу». Надо ли говорить, как они могли относиться к Лермонтову? И не только они, но и их потомки, пожалуй, имели основания проклинать поэта. Но можно ли доверять свидетельствам лиц о человеке, который записал на века их позор?
Как бы ни хотели некоторые исследователи приписать Лермонтову склонность к гомосексуализму, они не найдут никаких доказательств этому. Однако, как показывает практика, некоторым биографам Лермонтова доказательства не нужны. Так, В. Кирсанов71 упоминает о неопубликованной в России книге А. Познанского «Демоны и отроки: загадка Лермонтова», где утверждается версия о гомосексуальных отношениях М.Ю. Лермонтова и Н.С. Мартынова, дескать, и убил последний поэта из ревности… С. Степанов72 тоже допускает подобную трактовку биографии Михаила Юрьевича на основании того, что, дескать, должны же были за что-то выгнать (о том, как «выгоняли», уже изложено в предыдущей главе) Лермонтова из Московского университета. Вот и выгнали за это.
Упоминая такие «работы» исследователей, хочется просить прощения у Михаила Юрьевича и бежать мыть руки.
По поводу пьянства поэта… Святые, может, и не пили. И то не все. Ну нужна же была Лермонтову анестезия при соприкосновении с действительностью! Ведь он впервые так сильно столкнулся с проявлениями той самой болезни общества, о которой потом говорил в конце предисловия в «Герое нашего времени»… И столкновение романтизма с реализмом не могло не быть травмирующим психику. И Татьяна, воспетая А.С. Пушкиным в «Евгении Онегине», трансформируется в «Уланше» М.Ю. Лермонтова в изнасилованную Татьяну: вопрос Онегина «Ужель та самая Татьяна…» перефразируется в «Ужель Танюша! – полно, та ли?»…
Вообще-то история не сохранила преданий о беспробудном пьянстве Лермонтова. А.В. Васильев свидетельствовал73, что Лермонтов в 1835 – 1836 годах, появляясь в собраниях, где полно было вина, карт и женщин, был равнодушен к вину, с сочувствием относился к присутствующему на пирушках женскому полу, не имел азарта к игре в карты и любил слушать песни цыган. Д.А. Столыпин (брат Алексея Аркадьевича Столыпина, известного также по прозвищу Монго) тоже упоминал о пристрастии Лермонтова к цыганским песням.