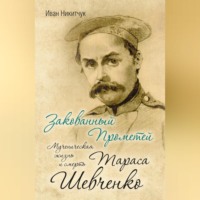Полная версия
Пламя мести
Юноши видели, как солдаты разбредались по огородам, рвали огурцы, дергали морковь и все это грызли на ходу, наспех вытирая бортом мундира или пилоткой мокрые рты. Некоторые из солдат забегали в хаты и выскакивали оттуда с какой-нибудь поживой – или горшком молока, или с пригоршнями горячей мамалыги, тут же глотали, обжигаясь. Иной выбегал из хаты и, осклабившись, прятал за пазуху вышитое полотенце, барашковую шапку или еще какой-либо предмет.
Семья Вани, Никитины, с первого же дня прихода румын спряталась в коморе. Три дня хата стояла на замке, окна были заставлены изнутри камышовыми щитками. Несколько раз приходили к хате солдаты, но потолкавшись, шли дальше. На войне солдату от пустой нежилой хаты никакого толку, а стало быть, и занимать ее нечего. Поэтому хату Никитиных три дня обходили мимо. Но вот на четвертый день под вечер к хате подошли трое солдат, они обошли вокруг, осмотрели окна. Потом один из них разбил прикладом окно и заглянул вовнутрь.
Мать Вани, Лукерья Кондратьевна, наблюдавшая эту картину, видела, как солдат ухмыльнулся и решительно направился к двери. Сбив замок, все трое ввалились в хату.
Внутреннее убранство хаты Никитиных всегда отличалось чистотой и опрятностью. Лукерья Кондратьевна была рачительной хозяйкой. Она ревниво хранила обычаи украинского быта. Хотя жизнь и внесла в семейный уклад Никитиных много нового, все же в убранстве оставалось национальное украинское, идущее от старины. Выбеленные до снежной белизны стены были увешаны традиционными коврами, полотенцами, рушниками, искусно вышитыми хозяйкой, видимо еще в пору ее девических досугов. С кровати и широких скамей свисали тяжелые, яркие ковровые полотнища. Аккуратно вымазанный глинобитный пол устлан ткаными узорчатыми дорожками. Большой стол под голубой скатертью до половины заставлен фотографиями, цветными открытками в ракушечных оправах.
Лукерья Кондратьевна незаметно пробралась в сени и в полуоткрытую дверь следила за тем, что происходило в хате. Она видела, как солдаты топтались по комнате, заглядывая под кровать и под стол, шарили под лавками, отворачивали и прощупывали матрац, трогали ковры, любовались узорами полотенец на стенах. Казалось, что они просто рассматривали незнакомую обстановку. Но вот один из солдат сдернул со стены понравившееся ему полотенце, и это как бы послужило сигналом для остальных. Все трое стали сдирать ковры, полотенца, рушники, скатывать ковровые дорожки.
Сердце женщины сжалось. Она решительно шагнула через порог в хату.
– Что вы делаете? – крикнула она.
Все трое переглянулись.
Больше она ничего не могла сказать и только смотрела на грабителей со страдальческой укоризной. Она походила сейчас на птицу, на глазах которой разоряли гнездо.
– Добре, домна[3], – протянул он, жестами объясняя, что ему нравится хата и что он с товарищами желает остаться здесь на ночлег.
– Для вас как раз все и приготовлено, – в бессильной злобе проговорила Лукерья Кондратьевна.
– Хорошо, добре.
– Да, добре вам с бабами воевать.
Она пошла к выходу, но у порога остановилась и молча покачала головой.
После вторжения солдат скрываться Никитиным уже было нечего. В тот же вечер отец, мать и девочка Маня перебрались из коморы в кухню.
Ваня, прятавшийся четыре дня на чердаке сарая, в кухню перейти отказался.
– Что же ты, один тут останешься? – спросила мать.
– Не хочу показываться им на глаза.
– Чего их бояться? Не съедят они тебя. Побудут день, другой и уедут.
– Я не боюсь, мама. Просто видеть их в нашей хате не могу.
– Верно, сынку, – вмешался отец, – ты, мать, не мешай ему, пусть делает, как хочет. Он верно делает.
Вечером Маня принесла брату на чердак ужин.
– Ваня, а зачем ты прячешься? – спросила она.
– Так нужно.
– Солдат боишься?
– Нет, не боюсь.
– А чего же не пошел с нами?
Ваня посмотрел на сестренку и улыбнулся.
– Любопытная ты очень!
– Не хочешь сказать?
– После, Маня.
– Нет, сейчас скажи.
– Что ты пристала! А то совсем не скажу. Ты вот лучше проследи, когда не будет в хате солдат, залезь под печку, там в правом дальнем углу спрятан ящик с книгами. Достань «Войну и мир» и принеси мне.
– Добре.
– Только смотри, чтобы никто не видел. Девочка, польщенная тем, что ей доверяют тайну, которую не должен знать никто, заговорщицки шепнула:
– Понимаю. Раз секрет, значит секрет.
– Правильно, Манюша. Пионеры должны доверять старшим и помогать. Помнишь клятву пионера?
– Помню! В ней есть и нетерпимое отношение к врагам…
– Молодец! Враг ворвался в наш дом… Об этом мы с тобой потом поговорим. А пока я предлагаю тебе быть у меня за адъютанта. Согласна? Помогать комсомолу будь готова!
– Всегда готова!.. Согласна…
– Ну иди, только постарайся сделать это поскорее…
После разговора с Григорием Ивановичем Ваня осторожно начал налаживать связь с товарищами. На первых порах ему предстояло, как указал учитель, узнать, кто из комсомольцев остался в Цебриково. И теперь, пользуясь промежутками, когда в селе не останавливались вражеские солдаты, Ваня посылал сестренку собирать сведения о товарищах. Он считал, что ей, бойкой тринадцатилетней сельской девочке, легко было всюду пробраться, не обратив на себя внимания. И Маня охотно выполняла поручение брата. Она бежала в какой-нибудь дальний конец Цебриково, а иногда в Ольгиново или Вишневое, словом, всюду, где жили школьные товарищи Вани. Возвращалась всегда запыхавшаяся, но довольная, и рассказывала, что ей удалось сегодня узнать.
Однажды она сообщила Ване об упорных слухах, распространяющихся по селам, что колонны беженцев, среди которых находились и беженцы из Цебриково, где-то отрезаны немцами и теперь возвращаются обратно.
Ваня принял эту весть с волнением. Значит, его друзей в Цебриково станет больше и шире будет организация. И задание учителя он выполнит. Тут же он подумал: где теперь Григорий Иванович? Не схвачен ли? Но нет, он верил в учителя и не допускал мысли, что Григория Ивановича можно было так легко схватить. Он будет ждать того момента, когда учитель даст о себе знать.
В эти дни Ваня много читал. Маня приносила ему на чердак книги. Некоторые он перечитывал вновь. Но сейчас эти книги имели для него совсем иное значение. Он воспринимал события, описанные в них, их героев иначе, чем прежде. Теперь он все это оценивал применительно к себе. А как бы поступил он, Ваня, окажись на месте того или иного героя? А вот здесь он сделал бы точно так же.
На десятый день после прихода румын Маня, посланная Ваней в очередную разведку по селу, вернулась особенно возбужденная.
– Ваня, возвращаются наши, цебриканские, – сообщила она.
– Тише, Маня, расскажи толком.
– Немцы их отрезали на Днепре и приказали всем вернуться по домам, – сказала она, видимо повторив слышанные ею слова.
– Ты видела кого-нибудь сама?
– Митя Поплавский вернулся. Миша Климук тоже вернулся, и Ваню Беликова видела, – докладывала Маня.
– Хорошо, Маня, – сказал Ваня, крепко пожав сестре маленькую руку. – Ты хороший разведчик.
– Хороший, а секрета не хочешь сказать.
– Какая ты любопытная! Пионеры должны быть выдержанными. После, Маня. Сейчас еще рано, понимаешь?
– Рано… Чего же не понять, – примирительно сказала она.
Оставшись один, Ваня открыл книгу и, отыскав нужную страницу, углубился в чтение. И уже не книга была перед ним – сама жизнь, давняя, но яркая и правдивая, открывалась ему. За рядами букв вставал живой образ легендарного Павки Корчагина, комсомольцев Гражданской войны и 20-х годов, так талантливо воспетых Николаем Островским.
Первые ростки борьбы
– Маня! – поманил Ваня пробегавшую мимо сестренку.
Девочка забежала в сарай.
– Манюша, выйди и посмотри хорошенько – на улице никого?
Маня молча кивнула головой и выскользнула из сарая. Через минуту она вернулась.
– Никого, Вань. Я все кругом высмотрела, – приставив к губам сложенные рупором ладошки, полушепотом доложила она.
– Добре, Манюша. А теперь подойди поближе и слушай.
Маня стала под самое отверстие чердака, из полутьмы которого белело лицо Вани.
– Ты говоришь, Митя здесь?
– Да.
– Сбегай к нему. Если он сейчас дома, передашь ему вот эту записку. Поняла?
– Ага.
– Повтори.
Маня в точности повторила поручение.
– Молодец. Из тебя бы хорошая партизанка вышла.
– А то нет? Я ничего не боюсь. Ночью могу одна в лес, в другое село пойти.
– Хвастаешься, – подтрунил Ваня.
– А вот и нет, – обиженно протянула Маня. – Дай мне такое задание, чтобы ночью и чтобы далеко, тогда увидишь.
– Хорошо, в следующий раз. А сейчас беги, чтобы днем, и чтобы недалеко, и чтобы быстро! – шутливо сдвинув брови, сказал Ваня.
Маня понимающе поджала пухлые, еще совсем детские губы и проворно, как ящерица, прошуршав по соломе, скрылась за дверью.
Сестра высоко ценила доверие брата, и все, что теперь ни поручал ей Ваня, старательно и охотно выполняла. Она бегала по селу, узнавала, кто из товарищей Вани остался в селе и, строго соблюдая тайну, передавала им записки, заклеенные хлебом. Она не знала содержания этих записок и не пыталась узнать, так как считала преступлением нарушать запрет. Но по тому, в каком строгом секрете держал все это Ваня, она догадывалась, что ей доверяют очень важное дело, и была горда этим.
Мать с отцом заметили, что девочка в последние дни с особенной заботливостью относилась к брату, чаще чем нужно шмыгала в сарай, часто уходила куда-то и возвращалась серьезная и собранная. Отец молчал, а мать нет-нет да и спросит:
– Где ты пропадаешь?
Дочь уставится на мать серыми, быстрыми глазами и ответит:
– Не бойся, мама, не пропаду.
Отослав сестренку, Ваня спрыгнул с чердака и, зажав под мышкой небольшую вязанку камыша, вышел из сарая.
Тщательно осмотревшись кругом, он перешел улицу и соседским огородом спустился к речке.
Далеко за лесополосой заходило солнце. В вышине неподвижно парили белые с позолоченными краями, курчавые облака. Так прозрачен был предвечерний воздух, а речная свежесть так пахуча, что у Вани слегка закружилась голова. Привыкшие к чердачному полумраку глаза щурились от яркого света. Юноша глубоко, с наслаждением вдыхал ароматный воздух, по которому так скучал в эти дни.
Ваня прошел вдоль берега к месту, где речка растекалась на два рукава, образуя островок, сплошь поросший камышом. Река в этом месте была мелка, вся в дремучих зарослях камыша – «джунглях», как называли их школьники Цебриково. Особенно после лета, бедного дождями, река настолько мелела, что камыши обнажались, становились похожими на лесные заросли. И часто хлопцам приходилось подкатывать штаны и переправляться вброд, проминая в камышах «звериные тропы».
Весь остров сейчас тонул в густой синей тени. Уже смолкла разноголосая птичья суета. Лишь изредка шарахнется хищница-сова, в смертельном испуге закричит преследуемая ею пташка, и снова наступит тишина.
– Подожду, пока стемнеет, – вслух подумал Ваня и, закидав травой принесенную им вязанку, присел на выступе крутого бережка.
На гладкой поверхности воды тихо плескалась серебряная рыбешка, и от этих всплесков плавно расходились по поверхности тонкие спирали, переплетались между собой, образовывая причудливую паутину.
От берега наискосок уходил к середине реки промятый в камышах след, а чуть в сторону от следа хранилась теперь лодка Вани, затопленная им перед приходом оккупантов.
Глядя вглубь этой темнеющей в камыше тропинки, Ваня подумал о лодке. И как-то внезапно само собой его воображение перенеслось в детство. Представилась не эта старенькая утлая плоскодонка с выкрошенными бортами и с надписью, стершейся от времени, а та новая голубая лодка, что называлась романтическим именем «Мцыри».
И потянулась ровная прочная нить воспоминаний.
…Летние сумерки. Отец, мать, сестренка Маня и он на кухне за ужином после трудового дня.
Вдруг на пороге открытой двери появился человек, неожиданно, будто из-под земли.
– Добрый вечер! – нарочито пониженным голосом здоровается незнакомец.
– Добрый вечер, – отзываются отец и мать, не зная кому.
Неловкое молчание.
– Не узнаете? – по-прежнему басит незнакомец.
– Да вроде нет, – отвечает отец.
– Значит, богатым буду, Карп Данилович, – уже своим голосом произносит гость.
– Ваня! У, чтоб тебя! Вот загадку ты нам задал! Гляди, вот он, наш матрос Кошка! – весело кричит отец, увесистой рукой хлопая по плечу невысокого молодого моряка. – Какими ветрами?
– Зюйд-вестом, Карп Данилович! – козыряет матрос. – В отпуск пришвартовался к вашей пристани.
Это сосед Никитиных Иван Криницкий – теперь моряк Черноморского флота. Он с гордостью носит морскую форму и щеголяет непонятными морскими словами.
– Ну, как тут, в вашей бухте, все спокойно, без аварий?
– Да, будто все в порядке, бедствий не терпим, – отшучивается отец. – Зажигай, мать, лампу.
Впервые Ваня видит настоящего матроса в полосатом тельнике, клешах и бескозырке с золотыми якорями на ленточках. Как зачарованный, смотрит он и не может оторваться. А молоко из ложки льется на колени.
– Ешь, весь облился уже, – говорит мать.
– Не хочу, – отвечает Ваня.
Не до еды ему.
– Ваня, тезка! – удивленно восклицает матрос. – Какой большой стал!
Схватив мальчика, он подбрасывает его под самый потолок. Ване немного страшно, но признаться в этом стыдно – что подумает о нем матрос?
– Скоро на флот пойдет, моряком будет! – смеется матрос и примеривает на льняной голове Вани свою бескозырку.
Заблестели от счастья голубые глазенки под непомерно большой бескозыркой, две ленточки ласково обвили шею, легли золотыми якорями на грудь.
В тот памятный вечер моряк много рассказывал о своей интересной морской жизни. Ваня не знал, правду ли говорит матрос, или по привычке многих моряков привирает, выдумывая интереснейшие истории, но только он, Ваня, не пропустил ни одного слова и во все поверил.
Было уже поздно, а спать не хотелось. Так бы вот сидел и слушал до самого утра.
Но вот матрос собирается уходить. Как не хочется расставаться с дядей Ваней и с его чудесными рассказами. Ваня нехотя возвращает бескозырку, уж больно по душе пришлась она ему.
Моряк видит грусть мальчика. Все моряки особенно уважают людей, которые разделяют с ними любовь к морю, лучше которого, по их мнению, нет ничего на свете.
– Не горюй, Ваня, – ласково говорит дядя Ваня на прощание, – я тебя возьму с собой на корабль. Будем вместе плавать. Пойдешь на флот?
– Когда? – не задумываясь, выпаливает Ваня.
– А вот отбуду отпуск, и махнем с тобой. Хорошо?
– Да, – поспешно соглашается Ваня.
Все хохочут. Но Ваня, насупившись, молчит. Ему совсем не смешно, напротив, досадно и непонятно, почему все смеются. Он срывает зло на сестренке:
– А она чего регочет? Дам вот!
– Ну конечно, ничего тут смешного нет, – говорит дядя Ваня, смеясь. – Поедем, Ваня, обязательно поедем. А то, что они смеются, – ты не обращай внимания, это они от зависти. Их во флот не примут.
Обрадованный Ваня согласно кивает головой.
– На кого же ты мамку оставишь, сынок? – с грустью спрашивает мать.
Но Ваня не чувствует подвоха и резонно отвечает:
– Тато остается и она, – указывает он на сестру, – она все равно во флот не годится. – И чтобы не опечалить родных, он успокаивающе добавляет: – А мы с дядей Ваней в отпуск приедем.
Снова все хохочут, а матрос заливается пуще всех, приговаривая:
– Правильно, Ваня, пусть смеются, мы их все равно не возьмем на корабль. – И шепотом на ухо добавляет: – Ты приходи завтра ко мне, я тебе такое расскажу!
При этих словах дядя Ваня загадочно подмигнул и на прощание руку подал, как большому.
С этого вечера началась их дружба.
Словно чудные сказки слушал Ваня рассказы о морях с мудреными названиями, об островах, где живут люди разных цветов кожи, о деревьях, совсем непохожих на наши, о страшных штормах, которые нипочем могучим кораблям, величиною, пожалуй, с самый высокий дом в Одессе. Моряк рассказывал об отважных советских матросах и капитанах, не ведающих страха. Но особенно запомнились Ване рассказы о далеких чужеземных портах, где очень тяжело живется черным, желтым и краснокожим мальчикам.
О многом, о многом еще поведал Ване черноморский матрос.
Потом дядя Ваня уехал. Но тот волшебный мир, что привозил с собой, моряк оставил Ване. Этот мир прочно вселился в детскую душу и зажег в ней еще не совсем понятную, но неугасимую мечту.
Ваня чаще стал бывать на речке. Теперь он как-то по-особенному стал воспринимать ее, то зеркально-гладкую, то подернутую свинцовой рябью. Это была уже не просто вода, в которой купаются, стирают, а широкое, необъятное пространство, по которому, пусть в воображении, плавают большие корабли. Закрыл глаза – и остров, порос уже не простыми вербами и камышом, а могучими тропическими деревьями-великанами. И появились в этом лесу львы и тигры, пантеры и слоны, полосатые зебры и быстроногие антилопы.
– Тату, я хочу корабль, – заявил Ваня отцу.
– Игрушку такую?
Нет, не об игрушке завел речь мальчик.
– А какой же ты корабль хочешь?
– Такой, на котором чтобы капитан и матросы. Большой… выше самого большого дома в Одессе.
– Ах, вон что! – удивился отец и, не удержавшись, захохотал. – Что же ты с таким кораблем делать будешь?
Но вопрос этот нимало не смутил Ваню. Он заявил:
– Плавать.
– Где?
– На Куяльнике или… Хаджибее. Дядя Ваня будет капитаном, а я матросом. И Миша Кравченко, и Митя Поплавский, и Ваня Беликов тоже будут матросами.
Тут отец захохотал пуще прежнего.
– Мать, слышишь? Сын хочет адмиралом быть.
Отец долго смеялся, и мать смеялась, и Маня смеялась. Потом отец перестал смеяться и сказал:
– Хорошо, сынок, вот пойдешь в школу, станешь хорошим учеником, тогда у тебя будет корабль.
– Большой?
– Ну, может и поменьше дома в Одессе, но плавать на нем можно будет.
И каждый из них сдержал свое слово. Ваня пошел в школу и стал хорошо учиться. А когда перешел во второй класс, отец подарил ему новую голубую лодку «Мцыри», ту, что теперь, постаревшая, хранилась в камышах.
А время шло. Проворно бежали школьные дни. Вот второй и третий класс остались позади. Ваня любил школу, дружную школьную семью. Но больше всего он полюбил книги. Много прочел он их, многое из них узнал. И тот мир, который раскрыл перед ним черноморский матрос Иван Криницкий, стал тесен. Новый, более широкий мир засверкал перед мальчиком яркими волшебными огнями. Жалко, что школьная библиотека так бедна.
– Тату, я хочу книжки.
– Какие книжки?
– Интересные.
– Разве в школе мало книжек?
– Про моря, про путешествия я все прочитал. А про лису и про волка я не хочу.
– Не знаю, сынок, какие тебе книжки нужны.
– Вот какие, – сын протянул отцу записку.
– Ну, ну, что мы тут имеем?
Это был список книг, составленный для Вани Григорием Ивановичем.
– О-го-го-го-го! Да тут что-то очень много, пожалуй, на целую бричку наберется, – сказал отец, озабоченно сдвинув брови.
Но отец любил Ваню, понимал, что хочет сын, и старался исполнять его желания. Сердцем простого человека он чуял, что эти желания были отнюдь не прихоть избалованного ребенка, а нечто большее. Он видел, с какой любовью и страстью сын тянется к знаниям, и шел ему навстречу. Сам-то он, Карп Никитин, вырос в батраках, малограмотным и знает, «почем фунт лиха».
– Хорошо, сынку, будет сделано. Вот поеду в Одессу, привезу тебе книжки, какие надо.
Зимними ночами, когда все домашние засыпали, Ваня тихонько вставал с постели, зажигал свет и читал украдкой, заслонив лампу от матери.
Но чуток материнский сон. Неосторожное движение на стуле или громкое шуршание переворачиваемой страницы, и мать открывала глаза.
– Ваня, ложись, поздно уже.
– Сейчас, мама, – отвечает Ваня.
– Ложись, – настаивает мать.
– Ложусь, ложусь.
Ваня привстает для видимости. По-прежнему шелестят одна за другой страницы. То хмурятся, то поднимаются в удивлении брови, падает на глаза, мешая читать, упрямая золотистая челка.
Мать снова поднимает отяжелевшую голову.
– Одну минуту, мамонька, – пытается упросить Ваня, но, видя, что мать решительно поднимается, шепчет:
– Ложусь, ложусь. Вот только до точки…
– Где она, твоя точка? – сердито перебивает мать и задувает лампу.
Мысль о неведомых океанах манила все сильнее и сильнее. Зрела мечта стать моряком, капитаном дальнего плавания.
Еще больше полюбил Ваня родную речушку Куяльник. Летом, вечерами, после полевой работы он, наскоро поужинав, бежал к речке. Там, у берега, примкнутый цепью, его ждал голубой челн «Мцыри».
Два-три сильных взмаха веслом – и лодка, отвалив от берега, неслась по «фарватеру», оставляя за кормой крутящиеся лунки от весел да быструю рябь.
Раскинулось море широко,И волны бушуют вдали…Крупными толчками несется гордый «Мцыри», журчит вода у бортов, разливается песня. Она самая любимая, в ней оживают просторы родных и чужих морей, в ней печальная судьба далекого кочегара, в ней волнующая душу тайна. И ничего, что Куяльник так тесна, а корабль всего лишь маленькая плоскодонная лодка, об этом на минуту можно забыть.
Товарищ, не в силах я вахту стоять,Сказал кочегар кочегару…Мелькают камыши, за ними, чуть медленнее, бегут прибрежные кусты лозняка, позади еще медленнее плывет зубчатая стена лесопосадки. Все это бежит, вращается, будто на огромном диске. И вдруг, за поворотом, берега как-то сразу суживаются и сдавливают песню. И ей, рожденной морем, становится тесно в речной колыбели, она перехлестывает через камыши. Тогда эхо полей подхватывает песню и, размножая ее, несет дальше от берегов. И в ответ поют и долина Куяльника, и лесополоса за рекой, и колосистый степной океан…
Тихий свист оборвал вереницу воспоминаний. Ваня настороженно вслушался. Сначала послышались два продолжительных свистка и третий короткий, точь-в-точь как проверка времени по радио. Это были позывные, которыми с детства перекликались друзья-школьники.
Ваня привстал на колени и так же тихо отозвался. Вслед за этим в густой вечерней синеве перед ним выросла высокая, с крутыми, будто приподнятыми от холода плечами, фигура.
– Митя! – вскочил Ваня и бросился к товарищу.
– Я, – отозвался тот глуховатым, ломающимся баском.
Молча, крепко обнялись товарищи. Тишина. Только два сердца стучат рядом. И обоим юношам хотелось продлить эту минуту душевного единения.
Ваня пристально всмотрелся в лицо товарища.
– Похудел ты за эти дни или мне в темноте так показалось?
– Жутко, Вань. Что творилось в дороге, да и после этого… Я ведь два дня в погребе сидел, как мышь. – Дмитрий помолчал и затем тихо промолвил: – Тьма, Вань, и не видно в ней просвета. Что делать теперь?
– Что делать? – переспросил Никитин. – А вот давай подумаем. Головы у нас не только для шапок. Что же мы стоим, присядем.
– Да я уже насиделся и належался в этом погребе до тошноты. И сейчас кажется, что сыростью да прелой картошкой отдает.
– Я хоть и наверху обретался, но режим у нас с тобой был одинаковый – сиди да лежи. Все-таки давай приляжем, чтобы не маячить.
Они легли в густую траву у самого берега. Некоторое время лежали молча, с наслаждением вдыхая сладковатый, с легкой примесью прели запах травы. Кругом было тихо. Только где-то очень далеко гудели моторы тяжелых автомашин. Их гул постепенно стихал и, наконец, растаял совсем. По темному высокому небу, рассыпая золотые искры, чиркнула падающая звезда, в тишине показалось, что она издала шипящий звук. Дмитрий нарушил молчание.
– В своем доме от чужих людей прячемся. Прямо не верится, что все это не в страшном сне, а наяву.
– Да, не привыкли мы прятаться. Нас учили жить открыто. Некого нам было опасаться.
– А что будет теперь, Ваня? Ну возьми, к примеру, нас с тобой. Вот ты хотел окончить нашу школу, потом поступить в одесское мореходное, стать капитаном дальнего плавания. Помнишь?
– Помню, как же.
Помолчали.
– Я мечтал стать инженером-конструктором. Самолеты строить собирался. И до чего это дело тянуло меня. Ты знаешь, Вань, я ведь часто по ночам не спал. Иногда лежу, закрыв глаза, и вижу, как машина взвивается в воздух. День солнечный, теплый, небо чистое-чистое, и в нем серебристая птица моя. Выше и выше уходит она, а я все больше задираю голову. А сердце стучит, того гляди выскочит… Да не только мы с тобой, а и другие хлопцы тоже. У каждого была своя мечта.
Митя смолк на короткий миг и уже совсем другим, дрогнувшим голосом заговорил:
– А теперь вот видишь… Все оборвалось…
– Знаешь, Митя, мечтать надо. Обязательно надо, но и о деле не забывать. Я вот тоже, когда увидел врагов, не знал, что делать и к чему руки приложить. Но когда поговорил с одним человеком, все стало ясно, что делать мне и всем нам.