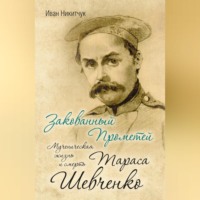Полная версия
Пламя мести
– Мы видели чужих солдат в степи.
– Когда?
– Только что. Мы прямо оттуда, чтобы сказать вам.
В спокойных, всегда улыбающихся глазах учителя промелькнула тревога.
– Может, вы ошиблась?
– Нет, точно.
– Минутку. – Платонов закрыл окно. – Расскажи подробнее.
– Сегодня ночью мы с Мишей Кравченко были там, в степи на вышке. Вы знаете.
– Ну, ну?
– Рано утром слышим – кто-то бормочет. Я выглянул в окошечко. Вижу, двое вылезли из лесопосадки на дорогу. Против нашей вышки остановились и озираются кругом. Смотрим – карабин у одного русский, вот этот самый… – улыбнулся Ваня. – Мы сначала решили, что это наши, хотели было спросить, далеко ли фронт, как вдруг слышим – забалакали они не по-нашему. Я толкнул Мишу, он меня, и мы вместе выстрелили из наших малокалиберных. Один из них упал, другой – тикать в посадку.
– Молодцы, не растерялись, – улыбнулся учитель, – Выходит, немецкая разведка напоролась на вас?
– Не похожи они на немцев. Маленькие, черные, как цыгане, и говорят не по-немецки. Наверно, румыны.
С минуту оба молчали. Учитель стал торопливо укладывать в ящик отобранные книги.
– Это все сохранить. Оно нам с тобой нужно будет.
Ване приятно было слышать «нам с тобой» из уст учителя, и он стал помогать.
– Еще как нужно, Григорий Иванович. Но как же быть сейчас?
Ваня ждал решающего слова учителя, он надеялся, что Григорий Иванович подскажет разумный выход. Ведь так было всегда. Он помнит, как они, ученики, чуть что бежали к нему попросить совета. Сколько всяких вопросов он помог разрешить им, сколько пылких надежд вселил он в их души, сколько сомнений рассеял! И не было, казалось, случая, чтобы хоть самая малая просьба была обойдена вниманием Григория Ивановича.
– Как вам быть? А как подсказывает тебе твое собственное чувство? Ты комсомолец, и вот теперь, когда ты своими глазами увидел врага, ты что-нибудь подумал?
– Подумал и сейчас думаю.
– Что именно?
– Всем нам надо уходить отсюда.
– Куда?
– На восток.
– Теперь, Ваня, пожалуй, поздно. Ночью шли бои здесь, совсем близко. Под утро отошли наши войска.
– Тогда к нашим, на фронт.
Платонов улыбнулся. Его радовало, что его ученики полны решимости не покоряться захватчикам и сражаться с ними.
«А почему бы не подключить ребят к организованному сопротивлению захватчикам? – подумал Григорий Иванович. – Ведь всем будет трудно, и молодежи тоже. Молодость и опыт при правильной организации могут дать нужный результат. Ведь именно на это нацеливал представитель обкома партии».
– Все это правильно, Ваня, но у меня есть другой план. Никуда не уходить.
– А как же?
– Оставаться здесь, в Цебриково.
– А… что же мы тут будем делать, на фашистов работать?
– Не работать, а бороться против них. – Учитель легонько взял юношу за плечи и привлек к себе. – Слушай меня. Сейчас на нашей земле, временно захваченной врагом, остаются тысячи вот таких же, как вы, комсомольцев, которые не станут изменниками или трусами. Так ведь?
– Конечно, Григорий Иванович.
– Так вот. Партия приказала нам с тобой создать здесь, в Цебриково, боевую подпольную комсомольскую организацию.
Ваня от неожиданности даже подтянулся, как в строю.
– Мне… тоже?
– Да, Никитин. Я знаю тебя как настоящего комсомольца и доверяю тебе. Уверен, что ты не подведешь.
Ваня почувствовал, как гулко застучала кровь в висках, задрожали ресницы и стало больно глазам. Он глянул в лицо учителя, но не увидел четких знакомых черт. Все расплывалось, двигалось, словно под водой. Плотно сомкнув веки, он выжал слезы, и сразу перед глазами все стало четче: и предметы, и теплая, понимающая улыбка учителя.
– Сделаю все, что…
– Тебе пока такое задание: надо узнать, кто из твоих товарищей-комсомольцев останется на селе. Прощупай каждого, чем он дышит, и только тогда привлекай. Группируй хлопцев вокруг себя осторожно. Бойся провокаторов и предателей.
Ваня слушал учителя, и в душе его рождалось и крепло гордое сознание, что ему доверяют такое великое дело.
– Помни, тут требуются осторожность, спокойствие и выдержка. На рожон лезть не нужно, горячиться не следует.
– Я это понимаю, Григорий Иванович. Буду поступать так, как вы говорите.
Платонов легонько опустил руку на плечо взволнованного юноши.
– Самое главное, помни, что рядом с тобой идут старшие – коммунисты. Они будут помогать тебе, направлять и оберегать. Как думаешь, справишься? Помни, что придется отвечать не только за себя, но и за товарищей. Цена риска в борьбе самое дорогое – жизнь.
– Понимаю, Григорий Иванович… А… вы?
– Я буду с вами.
– Но ведь вам здесь…
– Я уйду, но буду с вами. Понимаешь?
– Понимаю, – прошептал Ваня. Ему захотелось вдруг обнять учителя, но строгость минуты удерживала его от этого душевного порыва, и он только промолвил:
– Это очень хорошо, что вы с нами, что мы, как и раньше, вместе.
– Я сегодня уйду, но мы скоро увидимся.
– А как, где?
– Это мы устроим. Спасибо, что предупредил об опасности.
При этих словах учитель обнял Ваню и крепко прижал к себе.
– Главное – помните, что вы комсомольцы, не теряйте комсомольской чести.
– Не беспокойтесь, Григорий Иванович. С хлебом и солью врагов встречать не выйдем.
Учитель достал из-под полы пиджака сверток и подал Ване.
– Спрячь понадежнее. Это знамя нашего сельсовета и вашей будущей организации. Это знамя должно стать боевым.
Никитин принял из рук учителя знамя и спрятал на груди под рубашкой.
– Еще одно тебе поручение. Подыщи место, где можно сохранить оборудование физического кабинета.
– Сделаю, Григорий Иванович.
– Ну, до скорой встречи, Ванюша. На селе обо мне никому ни слова.
Еще раз крепко обнявшись, они простились.
Минуту спустя Ваня скакал к Михаилу Кравченко, чтобы поведать другу о том, что путь, который они сегодня искали, – найден. И на мучительный вопрос «что делать?» – есть точный ответ. Он знает теперь, что делать им, комсомольцам.
Ваня подскакал к хате Михаила Кравченко и, на ходу спрыгнув с лошади, побежал к товарищу.
– Миша, все в порядке! – воскликнул он громко.
– Что в порядке? – спросил выбежавший навстречу Михаил.
– Нашел, понимаешь? – Ваня понизил голос. – В школе застал, в библиотеке.
– Ну?
– Все, как было, рассказал ему, предупредил. Знаешь что, Мишка? Уходить не надо. Никуда не надо. Здесь останемся.
– Здесь? – недовольно протянул Михаил, удивляясь, почему это у Вани такое приподнятое настроение.
– Да, здесь, – твердо повторил Никитин и, озорно, по-мальчишески, подтянув к себе за ворот рубашки Михаила, полушепотом сообщил:
– Партизанить будем.
– Ну что ты? – поразился Михаил и в то же время обрадовался.
Это вполне соответствовало его характеру. Миша любил героику. Он упивался романтикой Гражданской войны, по несколько раз перечитывал книги о партизанах и завидовал героям, которых любил народ, чтил их память и слагал о них стихи.
– К нам скоро явятся «гости». Нужно будет по-хозяйски их встретить.
Михаил, до щелочек сузив серые глаза, довольно улыбнулся.
– Все правильно, Вань. Только я не знаю, как это будет…
– Я тебе все объясню. Пойдем на речку. Кстати, поможешь затопить лодку. Не хочу, чтобы попала в руки этих гадов.
– А кони, Вань? – спросил Михаил.
– Пока поставь в сарай, а там придумаем, что с ними делать.
Друзья завели лошадей в сарай, и побежали вниз к речке и дальше вдоль берега. Там, в узкой прогалине между камышами, стояла на приколе старая, утлая лодка, спутник Ваниного детства, друг, с которым связано много волнующих воспоминаний.
Прощай, школа!
Закончив свои дела в селе, Платонов осторожно вышел на прогалину школьного сада.
Вдоль северной стороны сада, обращенной к степи, проходила дорога. Через дорогу сразу же начиналось пшеничное поле, оно простиралось далеко вглубь степи. Все вокруг казалось величаво спокойным, но в этом на вид спокойном царстве кипела своя особая жизнь. Перекликались ленивые перепелки, откуда-то издалека доносились всхлипы жаворонка, щебетали, посвистывали и щелкали какие-то другие пичужки, стрекотали кузнечики. И от всей этой разноголосой трескотни село казалось необыкновенно тихим, обезлюдевшим.
Утро уже миновало. Занимался ясный день. По чистой синеве неба поднималось горячее солнце. Нагретый воздух восходил над степной далью струистыми голубоватыми волнами. Все предвещало знойный августовский день.
Платонов смотрел вдаль, как бы угадывая, где же проляжет его тропинка, куда поведет она и кто встретится на ней?
Поглощенный своими мыслями, он обернулся назад. Там меж стволов фруктовых деревьев белели стены школы.
– Ну вот, пожалуй, и все, – вслух произнес он и, с трудом подавив вздох, добавил: – Прощай, родная!
Учитель почувствовал, как сжалось сердце. Но усилием воли он тут же подавил щемящее чувство тоски. Мысль о том, что ждет его впереди, заставила внутренне собраться. Руки сами потянулись оправить, как в строю, гимнастерку. И только теперь, как следует оглядев себя, он нашел, что его одеяние совсем не годится. Все – от фуражки военного покроя до гимнастерки под командирским ремнем и брюк галифе – при первом же случае могло выдать его с головой.
– Вот этого не предусмотрел, горе-подпольщик, – с досадой упрекнул он себя. – Все нужно сбросить, сменить, и как можно скорее.
Он быстро прикинул в уме, где это можно будет сделать, и решительно пересек дорогу.
Густая, высокая пшеница укрыла его. И в первый раз за всю жизнь Григорий Платонов пошел по своей земле крадучись и пригибаясь.
На самом дальнем конце села, несколько на отшибе, стояла маленькая опрятная хатенка, скрытая с двух сторон вишневым садом и с третьей – закопченной кузницей.
Здесь жил колхозный кузнец – дед Михайло Бодюл. Был он в большом уважении у односельчан и громком почете в районе. Словом, это был один из тех цыган, у которых учатся и которые служат примером для среднего и младшего поколения колхозников своим отношением к труду. К нему-то и направился за помощью Платонов.
Тщательно осмотревшись, учитель подошел к хате и легонько постучал в дверь. Изнутри не отзывались.
«Не уехал ли дед Михайло? – с тревогой подумал Платонов. – Куда же еще можно пойти? Да нет, более подходящего места сейчас не найти».
Деда Михайла учитель хорошо знал и вполне мог довериться ему. «Да и по селу бродить теперь небезопасно – кто знает, на кого еще наткнешься».
Григорий Иванович снова принялся стучать в дверь, с каждым разом все настойчивее. Но по-прежнему было тихо, хата, казалось, была необитаемой. И когда надежда уже стала покидать учителя, в сенях послышался тусклый болезненный голос:
– Кто?
– Я, дед Михайло, – обрадовался Платонов.
Не сразу звякнула щеколда, и в дверях появилась высокая худощавая фигура старика в овчинном кожухе и шапке.
– Вы?! – не то растерянно, не то испуганно воскликнул дед Михайло.
– Да, да. К вам можно? – поспешил ответить учитель.
– Будь ласка, заходьте, Григорий Иванович! – оживился старик. – Извиняйте, что не сразу открыл вам. Я думал, что это они… – будто оправдывался дед Михайло, зябко поводя плечами. – Проходьте.
Пока хозяин запирал наружную дверь, Платонов вошел в хату и огляделся.
Дед Михайло Бодюл несколько лет тому назад похоронил свою жену и с тех пор жил один, отдавая все свое время кузнице. Но он был не одинок в большой дружной колхозной семье. И хотя в доме не было хозяйки, здесь всегда царили порядок и чистота. Старик сам следил за своим гнездом.
Сегодня в хате деда Михайла не было ни порядка, ни чистоты.
«Значит, жизнь старика тоже столкнула с рельсов», – подумал Платонов, внимательно оглядев и самого хозяина.
Вид деда Михайла невольно внушал чувство сострадания.
– Что же вы стоите, сидайте, – спохватился старик, указывая на скамью, кое-как застланную выцветшей тканой дорожкой.
Учитель сел.
– Да вы сами-то садитесь, – предложил Платонов.
Дед Михайло тяжело опустился на скамью рядом. Оба некоторое время молчали. Старик тихонько теребил на груди оборванную петельку кожуха. Большая узловатая рука его дрожала, как после тяжело перенесенной болезни. Платонову показалось, что этот всегда веселый, энергичный, острый на язык старик вдруг как-то сразу, неожиданно сдал, постарел на несколько лет.
– Похудели вы крепко, дед Михайло. Нездоровы? – участливо спросил Платонов.
Дед Михайло опустил голову и как бы про себя сказал:
– Горе, оно гнет человека хуже всякой хворобы. Как узнал, что вороги тут… – он неопределенно указал рукой, – так и подумал, что жизнь кончилась.
Старик часто заморгал, будто ему было больно смотреть на свет.
– Ну, до конца жизни еще далеко, дед Михайло. Мало ли мы бед переносили, а ведь вот все пережили, пересилили. И эту беду пересилим, – ободряюще говорил учитель. – Все это временно.
– Оно-то так, – слабо улыбнувшись, согласился старик, – но силы вот мало осталось. Боюсь, что не доживу.
– Доживем, дед Михайло!
Платонов понимал, что делается в душе старого колхозника, прожившего большую многотрудную жизнь. Он знал нелегкое прошлое Михайла Бодюла. Обычное детство в бедной многодетной цыганской семье, когда вечная нужда заставила рано испытать все тяготы подневольного труда, познать, как тяжело достается кусок хлеба. Восьмилетним мальчуганом Михайло холодными росными утрами гонял в поле хозяйское стадо, отогревая в теплом коровьем помете босые, исколотые жнивьем ноги. Затем юность, проведенная в темной и дымной кузнице у меха и наковальни, где за пятиалтынный в день он ковал хозяйских лошадей, оттягивал затупившиеся плужные лемехи, обувал в железные шины колеса повозок и арб. Потом революция, весть о том, что нет царя и что все помещичьи земли отныне будут принадлежать крестьянам. И вот теперь, на склоне лет, когда Михайло Бодюл был спокоен за свою старость, грянула беда, непомерной тяжестью легла на душу. Может, через час или два в село войдут чужие люди – враги. Они принесут с собой свои звериные законы, возродят рабство и гнет. И ему, деду Михайлу, познавшему радость жизни, страшно при мысли, что нужно будет возвратиться в то давно забытое царство мрака и бесправия.
– Доживем, – уверенно повторил Платонов. – Вот поправитесь и будете помогать нам гнать отсюда непрошеных гостей.
– Да я всей душой, Григорий Иванович. Если что потребуется от меня… Я ведь за эту нашу жизнь много сил положил…
– Мы им тут долго хозяйничать не дадим. Верно ведь?
– Правильно!.. Только как же вы?.. – вдруг озабоченно спросил дед Михайло. – Ведь вам опасно тут оставаться. Вы человек для них неподходящий.
– Я сейчас уйду. Только вы помогите мне.
– Чем же я?.. – забеспокоился старик.
– Видите, моя одежда не такая… У вас взамен что-нибудь найдется? Мне нужно переодеться.
– Это мы найдем, – оживился дед Михайло. Он, казалось, забыл про свою слабость. – Минутку.
С этими словами старик ушел на кухню. Он долго рылся там, хлопая тяжелой крышкой кованого крестьянского сундука, и наконец вернулся с отобранной одеждой. Это был почти новый стариковский пиджак плотного черного сукна, такие же брюки и картуз с лакированным козырьком и непомерно широкими полями на упругой стальной пружине.
– Если годится, одевайте, будь ласка. А сорочка вам тоже нужна?
– Давайте и сорочку.
– Зараз будет и сорочка.
Дед Михайло принес две рубашки, белую и ярко-розовую.
– Выбирайте, которая нравится.
– Да что же вы мне все отдаете, а сами?
– Куда мне наряжаться! А придет время, вы мне новую подарите, еще лучше.
Дед вышел. Платонов быстро переоделся. Костюм старика был ему немного узок и довольно смешно сидел на его плотной фигуре. Но ничего, это все же куда лучше, нежели его полувоенная форма. В довершение ко всему Платонов надел фуражку, служившую когда-то предметом сельского щегольства, и глянул на себя в зеркало. До того необычен был его вид, что учитель рассмеялся, увидев вместо себя в зеркале старомодного деревенского щеголя.
– Ну, как? – спросил он вошедшего в хату деда Михайла.
– Дужэ добрэ. Хоть зараз в церкву, – развеселился старик.
И Платонов вновь узнал в нем прежнего Михайла Бодюла.
– Можно и в церкву, только вот невесты нет. Невеста моя теперь уже далеко, за Днепром.
– Отправили?
– Да.
– Хорошо. И им лучше, и вам свободнее.
Платонов на минуту задумался. Напоминание о семье всколыхнуло улегшееся было чувство грусти.
– Ну, дед Михайло, мне пора. Спасибо вам за доброе дело.
– Нэма за що.
– Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и не раз.
– Будь ласка, что нужно будет, я все сделаю.
– Спасибо.
Платонов крепко пожал руку старого кузнеца.
– Если в чем будет нужда, я обращусь к вам.
Дед Михайло понимающе кивнул головой и тепло улыбнулся.
Григорий Иванович почувствовал к этому доброму, честному старику почти сыновнюю любовь. Он обнял деда Михайла, как самого родного и близкого человека.
– Подождите трошки, – дрогнувшим голосом произнес старик, – я посмотрю там…
С этими словами он вышел на улицу, обошел вокруг хаты и кузницы, посмотрел хорошенько в саду и вернулся.
– Можно идти.
Платонов перешел дорогу, шагнул в высокую пшеницу и, улыбнувшись, махнул на прощанье рукой.
Дед Михайло стоял и смотрел, как тихо вздрагивали тяжелые колосья там, где шел учитель. По временам он видел, как на короткий миг в пшенице мелькал черный кружок фуражки и тут же скрывался.
Наконец движение колосьев прекратилось, а старик все стоял и смотрел.
И хотя перед ним уже расстилалась спокойная золотая гладь пшеничного поля, ему все еще казалось, что черный кружок фуражки вновь мелькнет или покажется в прощальном взмахе рука. И перед глазами стоял образ учителя, который ушел, чтобы вернуть ему, Михайлу Бодюлу, утраченное счастье. И по щеке старика скатилась скупая слеза.
Оккупанты
Всю ночь багровые сполохи колыхали черное небо на северо-западе. По временам доносился глухой гул – будто тяжко стонала земля. Там, на водном рубеже Днестра, стояли насмерть последние, прикрывающие отступление наших войск батальоны.
А стороной от Цебриково уже громыхали по дорогам орудия, машины, слышался приглушенный тысячеголосый гомон, в который поминутно вплетались охрипшие голоса, – воинские команды. То отходили на восток наши войска, чтобы закрепиться где-то на следующем рубеже.
Вместе с отходившими частями Красной Армии разносилась по селам юга Украины недобрая весть, что немецко-румынские войска форсировали Днестр и устремились на юго-восток, к Одессе.
Августовское солнце всплыло над дальними холмами. Поднимаясь выше, оно все уменьшалось, из оранжевого становилось ослепительно желтым. Под его живительным теплом зрели арбузы и дыни на бахчах, сладкими соками наливались фрукты в садах. Разнося опьяняющие запахи, досыхало в стогах сено.
А на просторах полей клонился долу колос перестоявшегося хлеба. Пройдись по тучным нивам даже самый легкий ветерок, и, кажется, потекло бы на землю тяжелое зерно. Но степь стояла в тоске, ожидая тех, кто отдал ей столько труда, столько силы вложил! Родные нивы! Напрасно томитесь вы ожиданием, чутко прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь на дороге знакомый вам грохот комбайна, не возникнет ли вдалеке дружная песня. Не ждите! Сегодня жнецы ваши не придут!
На рассвете по дороге спешно прошли небольшие, видимо, последние подразделения наших частей, и все смолкло, как-то странно обезлюдел степной простор.
До полудня стояла над селом зловещая тишина. И вдруг будто невидимая рука задела туго натянутую струну, и она, задребезжав, оборвалась. Дрогнула тишина. Завыла, заревела, загрохотала степь. Над дорогами взвилась желтая пыль, заклубилась над придорожными хлебами, окутала зеленые сады.
С запада от станции Веселый Кут хлынули вражеские колонны. Мутным потоком устремились они в долину, двигаясь прямо на Цебриково. Сначала громыхали черные, с белыми крестами на броне, тяжелые и легкие танки, сверкая на солнце отполированными гусеницами; с вибрирующим ревом моторов ползли черные, графитно-серые, песочные, пятнисто-зеленые, как болотные жабы, автомашины, тупорылые, будто обрубленные спереди тягачи волокли тяжелые пушки, прицепы, груженные снарядами, минами, патронами и прочим военным снаряжением. Потом на какой-то промежуток времени образовался разрыв, заполненный густо клубящейся пылью, и снова пошли машины, но уже набитые пехотой. Солдаты сидели на скамейках в кузовах строгими рядами и их головы в железных касках напоминали баллоны. Кое-где между машинами катились небольшими группами мотоциклисты. И все это свирепо рычало, выдыхало клубы черного, бурого и сизого дыма и отравляло воздух. Это шли на восток передовые части гитлеровской и румынской армий. Они проходили по пустынным улицам Цебриково и, миновав село, двигались дальше на восток.
Легковая машина чуть свернула с дороги и остановилась, пропустив вперед расстроенную колонну пехотной части.
Когда пехота прошла несколько вперед и пыль, поднятая ею, поредела, дверца машины открылась. Из машины проворно выскочил офицерик, худенький брюнет с туго перетянутой талией. На его голове щегольски сидела фуражка с необыкновенно широкими полями. Лицо офицерика было оливковое, с черными, подвижными, как пиявки, бровями; под тонким хрящеватым носом, будто нарисованная, темнела аккуратная щеточка шелковистых усов. И что особенно поразительным казалось на лице этого армейского щеголя – это неестественно алые губы.
Офицерик картинно поставил на подножку машины тонкую, обтянутую желтой крагой ногу, и, вскинув бинокль, долго смотрел в него.
– Домнул субколонел[1], взгляните вниз, вон в ту долину реки, что перед нами. Какая изумительная картина! – с преувеличенным восторгом воскликнул офицерик.
Пожилой и тучный, с мясистыми щеками субколонел неохотно высунулся из кабины и приложил к глазам бинокль.
Внизу, куда указывал офицерик, лежала ярко освещенная солнцем просторная долина, разделенная на две половины извилистой рекой, окаймленной темной зеленью камышей, ярко-зелеными кустами лозняка и молодыми вербами. Справа зеленым разноцветьем уходила далеко на юго-запад широкая полоса лесных посадок. На север от долины, до самого горизонта желтели нескошенные хлеба. Вся долина была усеяна белыми хатами, тонущими в зелени садов. Все это жило, цвело, и, право, трудно было оставаться равнодушным при виде этой чудесной картины.
– Правда, очаровательное зрелище, домнул субколонел?
– Ммм-да… – лениво промычал подполковник, осматривая долину. – Правда, я городской житель и к сельскому пейзажу особой симпатии не питаю. Но этот вид недурен, что и говорить.
– А это село, домнуле! Оно похоже на огромную корзину с фруктами! – закончил восторженный офицерик, видимо питавший слабость к поэтическим сравнениям.
Подполковник неопределенно мотнул головой и развернул на коленях карту.
– Что это за местность? – спросил он себя. – Так, так, так… Это справа – лесополосы… сзади – железная дорога… а вот и река Малый Куяльник.
Подполковник повернул лицо к офицеру и тоном добродушного снисхождения к слабостям младшего сказал:
– А «корзина с фруктами», которая привела вас, локотенент[2], в такой восторг, называется Цебриково. Кстати, тут два села. По эту сторону реки – село Цебриково, а по ту – похожее на него – Малое Цебриково.
– Цебриково! Какое странное название! Как вы находите, домнул субколонел?
Подполковник Модест Изопеску ничего не находил, не верил он и в искренность восторгов локотенента. И все же он отнесся к этому снисходительно и даже промычал нечто вроде «ммм-да». Он сам начинал службу с нижних чинов и отлично знает, чего стоит человеку подняться по иерархической жандармской лестнице. Изопеску все же принял назидательный тон. Скосив круглые, выпуклые глаза, он иронически улыбнулся.
– Однако, вы лирик, локотенент Гросул. А для жандармского офицера эта черта уж не бог весть какая добродетель, – сказал он и, смахнув улыбку с лица, наставительно добавил: – Рекомендую не забывать, что в этой волшебной корзине могут оказаться такие фрукты, что зубы поломаете. Да, да, уж поверьте старому субколонелу румынской королевской жандармерии.
Под вечер, когда над лесом виднелся лишь огромный золотой обод солнца, в Цебриково входила румынская часть…
Ваня с Михаилом Кравченко, забравшись на чердак сарая родителей Вани, наблюдали, как по улице тянулись повозки, крытые на манер цыганских кибиток брезентом. Мелкие, худые лошаденки, обряженные в узловатую пеньковую сбрую, тащились устало, еле волоча ноги. Но самым интересным явлением в этом шествии были волы. Они тянули повозки и даже пушки, большинство из которых было на деревянных колесах и бог знает какого образца. По обеим сторонам, заполняя улицу, валили пестрые шумливые толпы людей, одетых в солдатскую форму. В повозках, на лафетах орудий, верхом на лошадях восседали солдаты, иные из них горланили песни, да не сообща, как это делается в армии на походах, а вразброд, кому что вздумается. Кое-где то заунывно, то разухабисто пели скрипки, гремели бубны.