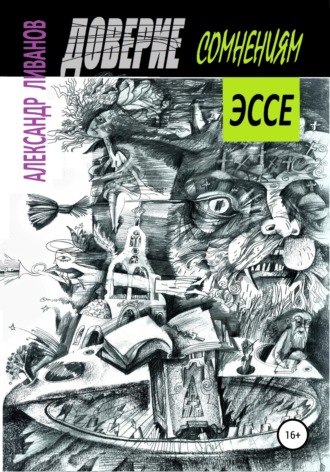
Полная версия
Доверие сомнениям
Есть лишь одна альтернатива против пошлости – труд созидания и труд творчества! Мещанской пошлости сюда трудней проникнуть, здесь меньше всего возьмешь формой, номенклатурно-списочно-штатной причастностью, званиями и степенями… Здесь куда чаще видно: кто есть кто!..
Довелось ли вам повстречать пошлого человека среди рабочих, среди колхозников? Не ужиться пошлости с их серьезной средой! А если и довелось все же встретить такого человека – знайте: между анкетным пунктом «профессия» и действительной сущностью «неувязка»…
Пошляку даже неуютно придется в цеховой курилке. Вот уж поистине – где будет он выставлен всем своим обличьем!.. Даже поползновения на шутливость, мелкую ухмыльчатость его и ёрну – перекроет вал истинного, здорового творческого юмора! Здесь рождаются поговорки и пословицы, которые передаются из уст в уста. «Бригадир что бугор – выше и виднее!», «Руководители – руками разводители», «Начальство ругать – что против ветра плевать», «У него поплавок – не сделает зевок!» (о вузовском значке-ромбике), «Как жизнь? Бьет ключом и все по голове!». В смехе – духовное здоровье – пошлость же демонична, мстительна, агрессивна…
В вышеприведенной выписке четко обозначено отношение поэта к пошлости. Оно не просто страдальческое – оно и бойцовское. «Поэт чувствует всю ужасную тягость от безысходной пошлости», он «придает кровь и плоть своей мысли и сердечной боли». Иными словами – он борется за здоровый дух жизни. Ценой сердечной боли! Как никогда «легализировала» себя мещанская пошлость в годы НЭПа. Вся наша литература дружно выступила против мещанина – начиная от Горького и Маяковского – кончая Ильфом и Петровым и Зощенко. Их произведения хорошо нам известны. Приведем здесь, например, строки Николая Заболоцкого, которые меньше известны, но накал пафоса которых равен гневу. Против мещанина, пошлости, их разлагательного действия.
Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрою ездой.
Стихотворение, откуда мы взяли эти строки – «Ивановы». Названием подчеркнута массовость, отнюдь не чрезвычайность мещанина! Это те же «служащие», о которых писал Маяковский в своем знаменитом стихотворении «Прозаседавшиеся», те же чиновники, «расходящиеся по учреждениям». Они не просто граждане, они – герои жизни. Исконно русская «быстрая езда» (Гоголь) им уже не по душе!..
А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
К слову сказать, – стихи датированы 1928 годом, по сути последним годом НЭПа, девятым валом его мутнопенящейся мещанской пошлости. Госплан не мог тогда «потеть», «давая задание на год» поэзии. Бессонными ночами трудились его работники над планом первой пятилетки. На арифмометрах, купленных на валюту, в черных их окошечках, мелькали первые прикидочные цифры – направления небывалой перестройки страны и народа. В конце концов это была одна из гипербол Маяковского. Поэзии не нужен «план вала» – она сама чувствует «социальный заказ», сама первая выходит на схватку с мещанством. Ведь и оно в первый черед перестраивается – антиперестроечно.
Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка – словно Арарат –
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?
Как ладно, уверенно, надолго устроил мещанин свой быт! И инстинкт поэта – поэтического героя – общего чувства народной совести: не там, не там место человека!
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!
То есть, любой ценой, любыми издержками жизнь должна стряхнуть с себя теплоустроенный, уютный мещанский мир бездуховного благополучия, пошлого быта и продажной любви-прислужницы.
Между первой выпиской из статьи поэта и критика Иннокентия Анненского («Художественный идеализм Гоголя») и стихами Николая Заболоцкого не просто временной интервал в четверть века, а революция, покончившая раз и навсегда с правовой основой мещанства, этого обширного резерва буржуазности. Казалось бы – четверть века, рубеж революции, а мещанство и пошлость его опять с болью отозвались в строках поэзии. Разве не сатанинская живучесть?..
«Так вечно. Один бродит по лесу, другой на востоке у рыбаков, третий в Париже, в Индии, в херсонских степях, поврозь и поврозь, в то время как угодливые и откормленные всегда вместе, на одной огороженной площадке, тесно сдвигают после собраний столы, лижут друг друга и только успевают носить к машинисткам свои пухлые рукописи. Из провинции приезжали богатые дяди, которые давно променяли слово на деньги, входили в клуб и странно менялись, прятали местную выправку, не знали, куда приткнуться, и если с кем их знакомили, то было им стыдновато произнести свое заштатное имя, и тогда они играли в «передовых», в прогресс, держась в душе все той же хитрости, выгоды и пробитой дорожки, и, подавая швейцару номерок, щелкали тут же монетой, и шли по Москве, чувствуя благостное освобождение от споров, умных слов, которые им все равно никогда не понадобятся».
Прошло еще сорок лет. И опять боль писательского сердца вызвана тем же мещанством, той же пошлостью. Далеко вперед ушла жизнь – изменилось и мещанство. На этот раз оно даже пробралось в святая святых – в писательское руководство! В немногих словах – картина и ситуация, уже без фантасмагории, в самом реалистическом плане, напоминающая писательскую среду времен булгаковского романа «Мастер и Маргарита»! Словно те же Берлиозы, Латунские и Рюхины, «угодливые и откормленные» руководители «Массолита» восстали из гроба, чтобы «быть всегда вместе на одной огороженной площадке, тесно сдвигать после собраний столы», чтобы «лизать друг друга» и «носить машинисткам свои пухлые рукописи»…
Эта выписка из замечательной повести «Люблю тебя светло» Виктора Лихоносова. Есть в этой повести и прямые упоминания о пошлости, о мещанстве, потому что повесть – лирическое раздумье о нашей духовности, о чистоте истоков нашей культуры, о поэзии Есенина. Некое задушевное, неторопливое путешествие во времени по памятным, освященным народным признанием, уголкам России. Это слова одного из героев повести, честного, ищущего, неудовлетворенного сделанным, писателя Ярослава Юрьевича. И еще он говорит:
«Литература – может быть, единственная область, где пошлость не права… Ведь пошлость – старое русское слово, и означает оно обыденность, обычность. Я думал, ты королева, а ты пошлая девица, писал Иван IV Елизавете английской. И необычное всегда плохо поддается изображению, оно кажется притянутым за волосы…».
Но с этим согласиться трудно. Пошлость признана – обыденностью, обычностью – и, стало быть, она права, правомерна в жизни, и лишь в литературе не права?.. До чего же, знать, и вправду сильна она в жизни – пошлость, если устами своего героя писатель готов уступить ей жизнь – как поле действия и как искупление свободы от нее – литературе!
Пошлость – не обыденность, не обычность. Это лишь ее собственные притяжания, ее надежды, которым не дано оправдаться. Хотя бы уже потому, что существует художественное творчество, прежде всего поэзия. Поединок давний, затяжной, но победа – пусть в перспективе – на стороне поэзии. И стало быть, на стороне жизни!
Выше мы уже говорили о пошлости, которая, вероятно, от пошлины (денежного сбора с привозного товара), от – искони заведенного, что искони повелось, от – избитого, неприличного, площадного, вульгарного, тривиального. Но ведь и сама «пошлина» – была первейшей пошлостью! Невесть «пошто» – платить деньги. Товар еще не продавался, еще торговля не начата, только за то лишь, чтоб товар «пошел дальше» – уже плати: разве не пошлость? И кто только не взымал пошлину, за что только не взымалась она – от мельчайших чинов – до самого государя! Разве не пошлость? Только уплатил – опять плати. «И пошло, и пошло…». А затем так и с любой уже глупостью, любой сплетней – один сказал, другой подхватил – «И пошло, и пошло», затем «пошла писать губерния», пошли писать район и область, и выше, и дописались все до великой пошлости, которая сама дошла до… «кооперативов», рэкета, миллионных барышей-грабежей…
И в наше время, – тем более, – когда идут в мире отчаянные битвы за свободу и достоинство человеческое, разве не означает это, что на прицел взята и пошлость, эта надежная ступень для цинизма, для лжи, для подлости для всей множественности лика – зла?
Человек сейчас поставлен перед историческим выбором: либо в благородной борьбе со вселенской пошлостью отстоять свою жизнь и свободу – либо погибнуть. Разумеется, он выберет жизнь – но обязательно исполненную достоинства!
Эти же мысли, к слову сказать, были не редкими в выступлениях писателей на последнем состоявшемся съезде. «Человек, готовый подняться на страницы наших книг, решил поступать по совести, решил восстать против косности, равнодушия, бюрократизма, – сказал, например, Вячеслав Шугаев. – Он пережил в себе так называемое житейское благоразумие, а для этого необходимо большое мужество. Может, не меньшее, чем войти в огонь… Писатель должен быть готов к встрече с ним».
«Почему читатели отворачивается от некоторых наших книг? – говорил Андрей Вознесенский. – Причин много. Главное – народ хочет гласности. Гласность – сестра литературы. Правда о чудовищной силе зла, лихоимства, двуличии уже известна народу. Он борется с этим злом. В книгах же, отредактированных и обкатанных редактором, он получает водевили вместо трагедий».
«За последние десять лет, – сказал Юрий Бондарев, – мы испытываем невидимый натиск нестеснительных сил, читали и читаем статьи, в которых мыслящий писатель упрекался в отсутствии мысли, крепкий и точный стилист – в неумении строить фразу, серьезный психолог – в непсихологичности и аполитичности, и с глубинным потрясением узнавали о том, что талант – это редкость… Критика в жизни и литературе должна идти против омертвело застывших вкусов, пошлых привычек, ожиданий и желаний мирового обывателя, групповых лжеценностей, то есть идти против течения средней морали, извращенной нравственности, хорошо зная, что она, критика, как и литература, – это выражение народного самосознания».
«Современная критика, – говорил Николай Грибачев, – должна овладеть мастерством формы, оставив псевдонаучную терминологию псевдонауке, а вязание замысловатых кружев – кружевницам. Но и критикам надо помочь, освободив литературную атмосферу от мелкообидчивости, мстительности, ущемленных самолюбий».
«В жизни бушует десятибальный шторм критики, невзирая на лица, а на страницах отделов критики наших печатных органов за редчайшим исключением по-прежнему стоит непоколебимый штиль благодушия и комплиментарности, – сказал Феликс Кузнецов. – Получается, что о самых острых и трудных вопросах деятельности, даже – о повороте рек говоришь легче, чем о повороте дел литературных».
Пафос всех подобных выступлений, как видим, против пошлости жизни, формы которой многолики и крупномасштабны. И тем убедительней предстает то, что уже сказано было выше: лишь бескорыстие массового творчества в любом труде, лишь духовное чувство жизни способно вырвать человека от подстерегающей неизменно опасности: пошлости. Превращая драматизм всего жизненного в видимость благополучного водевиля, она, многоликая мещанская пошлость, толкает жизнь к трагедии. Художнику – стало быть – нужно быть бдительным!
Пошлость – та плотная и жирная пелена обыденщины, тот незримый слой бытийного низа, которыми мещанская действительность удерживает жизнь от ее духовных устремлений. Она – щупальца цинизма и корысти, беспринципности и лукавства, наконец, всепозволенности и жестокости, которые прячутся до времени под спудом жизни, колебля ее поверхность под жирными, губительными, нефтяными волнами. Она ежеминутно готова вырваться наверх, мстя жизни за это свое вынужденное подполье. Вспомним великие создания Достоевского – между резко поляризованным добром и злом, олицетворенных в художественных образах, всегда видим этот ерничающий, ухмыляющийся, всегда готовый к цинизму, но маскирующийся шутливостью и усмешливостью слой пошлости, обволакивающий живые души, толпу вечных мещан, от Лябезятникова до Свидригайлова, от Федора Карамазова до Верховенского. При всем отличии художественных задач, решаемых этими разными образами, есть в них по меньшей мере одно общее: пошлость. Она – тот ядовитый замес, из которого выпекаются зло и порок в самых разных личинах!.. И понятно, что именно он, Достоевский, великий искатель универсальной истины жизни, достойной человека, не мог в этих поисках, в своих небывалых порывах духовности, горении искренности не наткнуться на пошлость, разливающуюся повсеместно из своих мещанских притонов… И сколько личин и масок было художником сорвано с пошлости! Вся наша классика – благородный пример противостояния опошлению жизни! Гоголь и Щедрин, Толстой и Горький…
У Чехова находим для пошлости новый эпитет (которого нет, например у Даля!): «сытый»… Очень это емкий и многозначный эпитет! А еще задолго до Чехова – иной опознавательный эпитет той же по сути пошлости, вроде бы миротворной между добром и злом, привел Некрасов: «ирония»… «Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и не жившим». Все сатанинство в жизни начинается пошлостью, это она приводит к бездуховному омертвению, к нынешним… выстрелам рэкетиров!..
Будем же чутки и непримиримы ко всяким истокам этого универсального зла!..
И здесь коллизии
Дружба – бесспорно одно из прекрасных человеческих свойств. Как, когда, между кем возникает дружба? Множество здесь толков. Главное, чем замечательна дружба – это, например, ее готовность к самопожертвенности. Но что еще важней – взаимопонимание!
«Для милого дружка и серёжка из ушка?» Но здесь не просто дружба, а любовь-дружба. Великие приметы дружбы – мужские. Стало быть, дружба – явление мужественное. Чаще всего дружба и рождается в общей борьбе, перед лицом общей опасности. Да и вряд ли есть выше той дружбы, которая рождается на войне!
Что означает само по себе слово – «дружба»? Надо полагать, речь о «другом», но для меня – как второе «я» мое, как мое альтер эго. Заметно и то, что «ба» – в нашем языке чаще всего означает соединение чего-то однородного («батарея», «байки», «балясины», «барыш», «батог» – соединение кнутовища и ремня – и т.д.).
В «дружбе» слышится – «рука»! То есть, два человека как бы подали друг другу руки – на нерасторжимую дружбу. Слышится и «ружье». На смертельном поединком с диким зверем, на охоте, на войне для солдата («Наши жены – ружья заряжены»!) ружье верный друг! В «дружбе» слышим и «вдруг»: кто же является вдруг, чтоб выручить нас из беды – как не друг?.. И вправду ли – друг – «другой»?..
…Но почему так одиноки поэты – которые больше всего пишут о любви и дружбе, о любви-дружбе!.. Сколько об этом, например, у Пушкина (сколько исписано бумаги по поводу этого многими другими!). Можно подумать – поэт был редкостно счастлив в дружбе, в любви-дружбе. Воображение Пушкина было подчас его реальностью («И забываю мир»).
Вот уж поистине, где желаемое принимается за действительное! Причем, случается это с нами в первую голову потому, что, сдается, так оно случалось с самим поэтом. Пушкин воздавал высокой поэзией за малейший земной знак дружбы! Одно из свойств щедрого сердца гения. Так Пушкин сам помог нашему заблуждению насчет его счастья в дружбе, любви, любви-дружбе. Может статься, чтоб он и сам, творчески, создавал и себе самообман этот? Ведь – «Я сам обманываться рад!..».
Да, сколько исписано бумаги для восхваления пушкинского чувства дружбы – и как мало пишется о том, как был он трагично одинок посреди своих – столь блистательных, казалось бы, столь нерасторжимо-прочных будто бы дружб…
Да, беспредельна была потребность у поэта как в любви, так и в дружбе! Но нашел ли он такую любовь, такую дружбу?..
То, что давала поэту действительность – далеко было от его потребности. Впрочем, любовь и дружба, применительно к Пушкину, отдельные темы, каждая из которых огромна. Пушкин жаждал дружбы, искал ее всюду, всегда, начиная с лицеистских лет, кончая последними днями жизни. Были разочарования, охлаждения, измены – но поиск продолжался до последнего вздоха. Нужна была личность под стать самому поэту! Такой друг не находился. Жуковский покровительствовал, искренне, чем мог, подчас рискуя собой, своей репутацией и положением, помогал поэту, стараясь облегчить его судьбу во время ссылки и бесконечных опал. Два поэта – они были все же слишком по-разному «устроены». Недаром поэт Жуковский годился даже в царедворцы, в то время как поэт Пушкин для двора «годился» лишь для ссылок, для опалы, для жандармской слежки! Нет, слово «дружба» – по мерилам Пушкина и его поэзии! – тут слово малоподходящее. Жуковский, выручая и помогая Пушкину, считал его неблагодарным к государю, будто бы благодетелю поэта, считал сумасбродным, недостаточно верноподданным. Помогая и выручая Пушкина из многих бед – Жуковский неизменно сетовал на характер Пушкина, выговаривал ему, наставлял на путь истинный, призывал «остепениться»… Мог ли Пушкин считать своим другом такого человека, пусть и поэта, пусть и в чем-то учителя, пусть, наконец, и преданного человека, знавшего значение Пушкина для России?.. Пушкин, жадно искавший друга великодушно не мешал Жуковскому думать, что они друзья. Это не было лукавством, расчетом, дипломатией – Пушкин умел быть благодарным и за это добро, не называл его – в душе во всяком случае – дружбой!.. Мы уж не говорим о тех сомнительных услугах – искренних со стороны Жуковского – которые вряд ли одобрил Пушкин, продли судьба его жизнь. От двойной неправды в сообщениях царю о заверениях Пушкина в преданности трону и особе государя, и о милостях царя по отношению умирающего поэта и будущего семьи его до «редакции» пушкинских строк из «Памятника» – для памятника Пушкину – и т.п. Слишком уж, знать, «помогал» тут царедворец Жуковский – поэту Жуковскому. Это было «ложь во благо», Жуковский любил Пушкина!
И потомки признательны за это Жуковскому.
Князь Вяземский всю жизнь потаенно завидовал дару Пушкина, прикрывая это беспечной шутливостью, пытаясь и Пушкина учить беспечности и веселому смирению перед роком. Видя, как все теснее затягивалась петля вокруг Пушкина в преддуэльные дни, почти точно зная время и место дуэли, князь палец о палец не ударил, чтоб помешать дуэли, продолжая шутить над «сумасбродностью Пушкина», словно не понимая, что на сей раз речь идет не просто о дуэли из «ревности и личного оскорбления», «дворянской чести», «защиты чести семейной» – а о защите чести русской поэзии!..
Дельвиг уже был шесть с лишком лет в могиле, Пущин был далеко в сибирской ссылке. Оставался еще Павел Войнович Нащекин, любивший Пушкина искренне, бесхитростно («Этот удивительный Александр Сергеевич!»). Главное, умел Павел Воинович слушать. Не спорил с Пушкиным, не всегда, не все было ему понятно из заветных мыслей поэта, но именно потому, что умел как никто другой слушать, именно ему и доверял поэт это самое заветное… Да, был в Павле Воиновиче такой дар: слушателя! И зря исследователи изображают отношения поэта с Нащокиным единственно как отношения-развлечения веселого времяпровождения с барином-игроком, барином-мотом и гулякой. И все прочее лишь в этом плане. Стоит перечитать письма Пушкина к Нащокину, чтоб убедиться в том, что он для Пушкина был куда больше, чем одним лишь приятелем по играм в карты, наездам по «злачным местам», собутыльником…
Разумеется, были еще Чаадаев, были Погодин и Плетнев. Были и другие. Но Чаадаев с годами становился все замкнутей и недоступней. А после своих знаменитых «Писем» и объявления его двором «сумасшедчим» – и вовсе стал всего страшиться. Тем более встреч и откровенных разговоров с Пушкиным – гласно или негласно, но всегда опальным!.. Академики Погодин и Плетнев по существу мало интересовали поэта – именно своей академической ученостью. Тем не менее были они ему интересны своими писательскими притязаниями. Зато их Пушкин не мог не интересовать! И не учеными своими трудами, не литературными трудами своими они остались бы в памяти нашей, а тем, что у них достало догадки стать по возможности – один в Петербурге, другой в Москве – издательскими помощниками поэта! Может, единственным человеком, который мог бы стать духовно ближе всех поэту, в чью преданность Пушкин убедился, увы, слишком поздно, уже умирая, был Владимир Иванович Даль, на чьих руках и скончался Пушкин…
Пушкин был по существу очень одинок. При жизни так, в последние дни перед смертью так. Всю жизнь. Это может показаться безосновательным утверждением, приняв во внимание его плотное окружение, множество людей возле него, и мужчин, и женщин. Он был одинок, прежде всего, как гений, мысли которого уходили далеко вперед своего времен. А ведь другом, подлинным другом, мог быть лишь единомышленник! Такого возле Пушкина не было. Друзья, друзья – так оно и пишется, так оно и говорится – а друга, одного, но именно «альтер эго» не было. Да и не могло быть…
Трагизм одиночества был велик, под стать самой великой жизни. Даже секунданта не нашлось. Случайно встреченный Данзас не был лицейским другом. Да и секундантство счел долгом из общепринятой дворянской и офицерской чести. Ни одной попытки предотвратить дуэль помешать убийству поэта! Один лишь педантизм секундантства…
И вот уже Данзас тоже в числе друзей поэта. И его портрет видим неизменно в работах о жизни поэта…
«Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти», – писал после смерти поэта Вяземский. Это весьма знаменательное признание. Был любим, цени́м, почитаем и все же: не понят! И Пушкин ли этого не понимал? В свою очередь всегда сознавал, как далеки они, любовь и почитание ближайшего окружения, от подлинной дружбы, которую он всю жизнь ждал…
И, видать, единственными – подлинными – друзьями поэта были его книги. К ним и обращен последний взгляд, последнее «прощай» поэта.
Да, так уж повелось – все разговоры о Пушкине – не обходятся без слова «друзья»… Так при жизни поэта, так и в последние дни перед его смертью, так потом все больше в мемуарах и исследованиях о поэте. «Прах Пушкина принял последнее целование родных и друзей. В.А. Жуковский обнял бездыханное тело его и долго и долго держал его безмолвно на груди своей», – вспоминал П.В. Анненков.
«Когда тело совсем выносили из церкви, то шествие на минуту запнулось; на пути лежал кто-то большого роста, в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был кн. П.А. Вяземский», – писал П.И. Бартенев.
Пушкин всегда умел дорожить и оценить по достоинству и ту дружбу, которую дарила ему судьба. Но все это, увы, еще убедительней доказывает, что гений – помимо всего прочего – обреченность к одиночеству. Пушкин не был исключением. И это несмотря на то, что тысячи томов написаны – и еще будут написаны – о нем и его друзьях. Жажду дружбы поэта приравнивают к тому, с тем, что было его окружением. Желаемое поэтом принимают за действительность его биографии…
И словно на примере Пушкина потом уже Гоголь и Лермонтов, Толстой и Тютчев, Достоевский и Блок никого не жаловали этим высоким словом – друг. Иногда мы встречаем это слово в их письмах, но значение слова не больше эпистолярной вежливой дани…
Но лишь поэту и в этом дано, видать, прожить жизнь с чувством исполнившегося идеала – любви и дружбы! Красота, как само счастье, всегда впереди, всегда призрачна, непрочна, мимолетна. Ею владеть – невозможно. И в этом источник лиризма – и восторженного, и грустного. Он из двуединства – мечты и яви, воображения и действительности.
Красота у Пушкина всегда недосягаема, всегда тайна, всегда обретается в мире как «мимолетное виденье», как «гений чистой красоты», она всегда эстетична, но не обязательно нравственна. И она же и неподсудна. Над нею можно только слезы лить. И жизнь, и слезы, и любовь. Такова красота и женская, и природы, и жизни. Поэт словно нигде не надеется на победу над красотой, не надеется на обладание ею – но всегда глубоко признателен ей, готов ее боготворить за малейшие знаки внимания к нему как к поэту. «Равнодушная природа» – для Пушкина – прежде всего равнодушие красоты!
Красота для Лермонтова – не «равнодушная природа». Она активна и таит опасность мужской свободе! Подобно Печорину, Лермонтов выходит навстречу любви – как на поединок, который может стоить жизни… Мечта о красоте – в отличие от непосредственной пушкинской – более аналитичная, она и знающая, и рефлектирующая, и фатальная, она – прозревающая роковые последствия. Лермонтов не пытается завладеть красотой. Он не взывает к ней, боготворя, не молится ей как божеству. Он предвидит здесь борьбу – не на жизнь, а на смерть! Пушкин увещевает любовь, пытается ее всегда духовно очеловечить, сделать земной и возвышенной. Он очень огорчается, когда она, красота, «гений чистой красоты», живет и действует по своим природным законам. Поэт все понимает, и улыбается ей сквозь слезы, он не осуждает ее, будучи терпимым и самоотрешенно-великодушным. Таким бывал и в жизни! Он лучше сделается «почтальоном и сводником», доверенным наперсником, неся любовные записки «усатым майорам», избранникам красавицы Нины Закревской, этой Клеопатры Невы, в которую безнадежно влюблен, чем строить ловушки, плести паутину любовной интриги или тем более помышлять о мести ей за отвергнутую любовь! «Если б не твоя медная Венера (первоначально – «если б не Закревская». – Прим. А.Л.), то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники». А в стихах, посвященной ей нет и тени шутливости – тут страдание:







