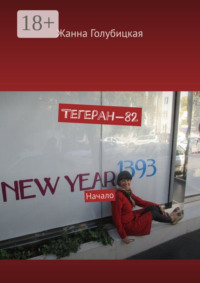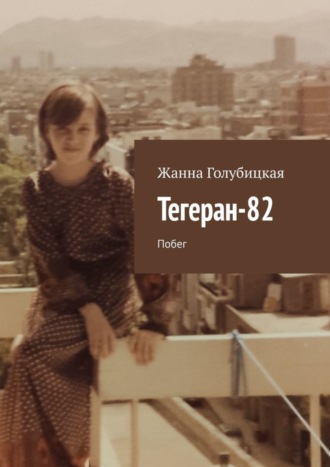
Полная версия
Тегеран-82. Побег
Слушая Серегу, я снова подумала, как было бы здорово, если бы Мухобойка и впрямь оказалась баяткой! Она не только красивая, но и благородная, и я хотела бы быть ее соплеменницей. И я обязательно стану поддерживать свою дружбу с этой необыкновенной гордой девушкой!
* * *
Но после 8-го марта мне стало совсем не до Мухобойки. Моя жизнь круто изменилась, хотя, возможно, со стороны это было не так уж заметно.
К нам приехала новая девочка с красивым именем Марта, дочь нового терапевта. Она собиралась провести лето в Зарганде и очень гордилась, что сумела сбежать из школы до окончания учебного года. Марта заканчивала 7-й класс, но ей уже было 14. Приехала она одна, без мамы. Взрослые говорили, что е маме противопоказан тегеранский климат.
Мальчишки, разумеется, тут же прозвали Марту Мартышкой. Она была невысокой, полненькой и такой подвижной, что и впрямь чем-то смахивала на мартышку из мультика.
Она не мола усидеть на месте, будто была на шарнирах, и при этом еще крутилась вокруг своей оси как юла. С первого взгляда Марта не показалась мне красивой и даже симпатичной, но уже через четверть часа я считала, что Мартышка – самая красивая девочка в мире! Потому что она сама это утверждала, а я ей верила. Под влияние Марты я попала с первых же минут нашего знакомства. То ли потому что она была такой заводной и обаятельной, то ли папа был прав – в ограниченном коллективе мое воображение, подпитанное хаотичным чтением взрослых книжек, отчаянно жаждало новых героев. И я лепила их из всех новых лиц, попадавшихся мне под руку.
Наверняка каждый сегодняшний взрослый в своем детстве хоть раз, но встречал своего «карлсона», который проказничал всерьез, а чуть что, улетал в окно, оставляя Малыша разгребать последствия. Такой «друг с пропеллером» – что-то вроде уроков жизни, для накопления бесценного опыта выживания он просто необходим.
Этим необходимым и, судя по скорости моей реакции, долгожданным «карлсоном» моего детства стала Мартышка, неожиданно «влетевшая в мое окно» после 8-го марта. Теперь я думаю, что судьба преподнесла мне ее, чтобы я, даже будучи вырванной из «естественной среды обитания» в виде школы, где хочешь-не хочешь, а учишься выстраивать отношения и с учителями, и со сверстниками, все равно не пропустила урок ответственности за свои поступки.
В моей десятилетней голове царил сумбур из знаний и незнаний, за окном громыхала война и на все голоса вопила ненависть к моей стране, но при этом я ощущала себя очень даже защищенной. Мало того, такой защищенной, как в ту пору, я не чувствовала себя больше никогда в жизни. За мной крепкой стеной стояли папа, мама, советский посол, международная конвенция о дипломатической неприкосновенности и, собственно, сам Советский Союз – самая могучая на свете держава, которая своих никогда не бросит. Мы искренне удивлялись, что США столько выпендриваются, а сами уже полтора года не могут вытащить своих заложников: уж нас-то в таком положении Родина точно не бросит! В это безоговорочно верили не только дети, но и большинство взрослых. А кто не верил, те благоразумно помалкивали.
На фоне серьезных исторических потрясений наши «курощения и низведения» в виде привидений и мумии Мамочки, разумеется, были ерундой, даже если адресовались взрослым. Никто всерьез не наказал бы нас за «автопрятки» в Зарганде – разве только, если кто-нибудь вдруг пожелал бы насолить нашим родителям и испортить их анкету. Но к счастью, военный Тегеран был не тем местом, ради работы в котором люди шли на низкие поступки, очерняя друг друга, дабы выбить себе теплое местечко под посольским солнцем.
Оглядываясь назад и сопоставляя воспоминания с жизненным опытом и наблюдениями, я понимаю, что все размолвки в советской колонии в Тегеране тех лет были ерундой из серии «как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». Мелкие и незначительные «стычки-междусобойчики» быстро решались и превращались в междусобойчики примирительные, с тостами за равенство, дружбу и мир во всем мире. По гамбургскому счету жили мы дружно и бесстрашно, ощущая спиной мощное дыхание сверхдержавы, которую считали своим надежным тылом. Этой действительности, пожалуй, и впрямь не хватало Мартышки, готовой бросить гранату в болото. Девочки, которой будет плевать и на посла, и на конвенцию, потому что она никогда даже не слышала таких слов, и они не имеют для нее никакого значения. И именно поэтому послы с конвенциями, олицетворяющие власть, бессильны против «мартышек», олицетворяющих жизнь. И даже не олицетворяющих, а воплощающих ее – каждую минуту, каждую секунду живя на полную катушку во всех своих проявлениях – от самых низких до самых высоких. «Мартышки» дышат полной грудью, беззастенчиво воплощая все свои естественные нужды – в самом широком понимании этих слов.
Видимо, Мартышка была прирожденным «смутьяном»: из-за нее я впервые серьезно поссорилась с Серегой и всеми бимарестанскими детьми. Даже интриги посольских детей не шли ни в какое сравнение с недетскими проделками моей новой подруги. Но мне рядом с ней было комфортно и интересно. Наверное, мама права: я уже тогда была испорченной девчонкой.
Кругленькая, словно надувной шарик, Мартышка все время суетилась и без умолку болтала. С ней было легко – не надо думать, о чем говорить, во что поиграть, чем заполнить скучную паузу в беседе, игре и вообще в жизни. Карлсона она напоминала уже тем, что постоянно рассказывала, что она «самая лучшая на свете девочка, в меру упитанная и в самом расцвете сил». Звучало это почти по-карлсоновски:
– Вот вы посмотрите на меня! – вещала она нам всем, сидящим в рядочек на лавочке в первые дни после своего приезда. – Вот я вроде и пухленькая, и ноги у меня не от ушей, и глаза – не фары, как у некоторых, но все мальчишки в моем классе бегают только за мной! И не только в моем классе, но и в параллельном! Да и не только из нашей параллели, за мной со всей школы парни бегают – и «старшаки», и даже подшефные!
Я глядела на ее крохотные серые глазки, мясистый носик, неопределенного цвета жидкие волосы и большой подвижный рот с пухлыми губами – и безоговорочно верила, что она говорит правду! Было в Мартышке нечто такое, что заставляло в это поверить. Взрослый человек сказал бы, что в ней била ключом сама жизнь. С высоты прожитых лет добавлю, что в ней была та самая женская «червоточинка», равнодушным к которой не может остаться ни один здоровый мужчина. Не случайно же «легкий налет порочности» – излюбленный прием режиссеров, ваяющих образы незабываемых, роковых женщин. Их «фам-фаталь» – далеко не всегда писаная красавица, гораздо чаще это как раз такой «живчик», каким была моя тегеранская Мартышка.
Верила ей не только я, но даже мальчишки. Что до Тапони, то в первый день она слушала Мартышку молча, а на второй, как только Мартышка на секунду отлучилась, вдруг изрекла:
– Энергичная дворняжка!
Мы уставились на Тапоню в ожидании пояснений, но она больше ничего не добавила.
– Все ясно, – заключил Серега, – я у мамы попугай!
Сегодня я понимаю, что тогда, в силу обстоятельств нашей жизни, в каких-то вещах мы были намного взрослее своих сверстников, зато в других безнадежно от них отставали. Штрихи, из которых складывалась наша картина мира, были настолько хаотичны и иногда противоречивы, что, когда речь шла о незнакомых нам реалиях, мы были просто не в состоянии отличить правду от лжи. И любая красочная ложь в нашем неокрепшем сознании легко могла стать правдой. Так и рождалась великая путаница нашего мировоззрения – из обрывков взрослых фраз и почерпнутых из случайных книг сведений, помноженных на собственные детские фантазии. Наш взгляд на окружающий мир формировали самые разные люди, попадавшиеся на нашем пути, со своими личными сомнениями, страхами и амбициями. Хорошо еще, что родители не ленились время от времени вмешиваться в эту путаную картину мира и проводить в ней генеральную уборку. Для меня в этом смысле был очень важен папа. Именно к нему я, как та книжная «кроха», чаще всего шла за разъяснениями, где хорошо, а где плохо. И именно в ту пору узнала, что в жизни все далеко не так однозначно, как в детских книжках. Нет только черного и только белого, зато есть множество полутонов и оттенков, которые в одной картине хороши, а другую безнадежно портят. Часто то, что одному на пользу, другому во вред – и наоборот. Папа в таких случаях напоминал мне известную пословицу про русского, которому хорошо, когда немцу смерть.
В Мартышкиных историях, а все они были о любви, никто из нас не способен был вычислить не то, что вранье, но даже преувеличение. Тем более, мы добросовестно не понимали, зачем ей нам врать, если это не имеет никакого практического смысла?! Понятно, когда врешь, чтобы уйти от наказания, получить желаемое, свалить вину на другого или, наоборот, выгородить друга. Но врать просто так – это же пустая трата слов, времени, собственной фантазии и чужого доверия! Именно так мы рассуждали и потому верили каждому Мартышкиному слову.
Например, мы ни на секунду не усомнились в том, что у 14-летней семиклассницы Мартышки на самом деле был бурный роман с ее учителем истории. Нам не показалось невероятным, что Мартышка, за которой «бегали все парни школы», выбрала в кавалеры преподавателя, который годился ей в отцы. Мы не обнаружили ничего странного в том, что они ходят вместе в кино, после школы он провожает ее до дома, а в классе при всех признается в любви. Лично мне Мартышка по секрету призналась, что иногда заходит к учителю домой, где они целуются и «всякое такое».
До нас даже не доходило, что в московской школе того времени, такого быть не могло – потому что не могло быть в принципе! Свой родной район возле метро Ждановская Мартышка живописала так, что в моем воображении он рисовался чем-то вроде чернокожего Гарлема, каким показывали его в американском кино – кварталом, полным опасностей, приключений и отчаянных мужественных парней. Я жалела, что никогда там не была, и мечтала, вернувшись в Москву, сразу же посетить Кузьминский лесопарк.
Мартышка была не просто обаятельной хулиганкой, она была еще и талантливой рассказчицей. Но только не такой, как мой папа, чьи рассказы были обстоятельными и познавательными. Мартышка была рассказчица-вспышка – прямо помесь Карлсона с бароном Мюнгхаузеном. Ее истории были короткими, зато сразу разили наповал своей сенсационностью.
У Мартышки не было ни страхов, ни сомнений, ни совести, ни каких-либо других ограничений – и от этого казалось, что весь мир принадлежит ей. Конечно, проанализировала я это гораздо позже, а тогда просто почувствовала.
Она словно обладала магнетическим полем, сильным настолько, что в первое время после ее появления под обаяние и влияние Мартышки попали даже мальчишки. Правда, «поле» ее работало только в близком контакте: стоило ей отдалиться, как наваждение таяло.
Этим она тоже напоминала «толстого человечка с пропеллером»: пока он играет с тобой в твоей комнате, ты абсолютно уверен, что он существует, и что он «лучший в мире друг». Но как только он вылетает в окно, обещая вернуться, ты уже не очень уверен, а был ли он на самом деле?! Его влияние спадает как морок.
При разборе наших с Мартышкой «полетов» моя мама так и выразилась:
– Она ее заморочила!
Это был тот редкий и едва ли не единственный случай, когда мама оказалась на моей стороне. Но все это было позже. Вначале было весело.
С появлением в нашей бимарестанской жизни «Карлсона» в лице Мартышки именно я стала самым преданным ее «Малышом». В ее присутствии я увлекалась настолько, что забывала обо всем на свете. Но стоило моему «другу с пропеллером вылететь в окно» (ненадолго отлучиться), как я приходила в ужас от количества «плюшек», которыми мы успели набаловаться.
«Завербовала» меня она в самый первый день, как только появилась в бимарестанском дворе.
– Ну и чем вы тут заняты? – спросила Мартышка, оглядев всех нас пятерых, сидящих на лавочке в патио.
Мы не нашлись с конкретным ответом. Вроде бы чем-то мы постоянно занимались, но в двух словах это было никак не обозначить. Вроде учимся, но и не учимся, гуляем – и не гуляем. Самодеятельность устраиваем, но это всего-то несколько раз в год, по большим праздникам.
– На скейтах гоняем! – наконец нашелся Серега.
– Поняяяяятно, – протянула Мартышка и прищурилась на меня. – Ты тоже, что ли?
– Я тоже, – на всякий случай подтвердила я, хотя мне показалось, что Мартышка такое развлечение не одобряет.
– Поняяяяятно! – еще раз протянула она. – А у тебя от мальчиков секретов нет, что ли?! – она строго посмотрела на меня, а потом кокетливо на Серегу.
– Нет, – растерялась я. – То есть, да!
Серега смутился и даже слегка покраснел. Схватил скейт, крикнул: «СахАр, бия („бия“ – пойдем – перс.) кататься!» – и мигом испарился. За ним помчался мелкий Сашка-СахАр, а следом неторопливо, вразвалочку, словно нехотя, удалился Макс.
С нами остались только Тапоня и Вовка-Бародар.
– А ты чего застрял? – Мартышка ущипнула Вовку за пухлую щечку, прямо как наша «пендюшка» Паризад-ханум в свое время мелкого Сашку. – Все твои уже ушли, ты тоже уже готов, давай – раз-два-три – пошел!
Все это было сказано не грубо, а даже наоборот – почти нежно.
Удивленный Бародар засеменил в сторону «большака», беспрестанно оглядываясь.
– Значит так, кисы мои, – обратилась Мартышка к нам с Тапоней. – При мужиках никогда свои проблемы не решаем! Это вредно для них же. Особенно, при такой мелюзге, которая у вас тут имеется. А поинтереснее кто-нибудь есть?
– В смысле? Кто? – не поняли мы с Тапоней хором.
Мартышка посмотрела на нас удивленно-снисходительно:
– Мужики, кто же еще?!
Через минуту Тапоня под каким-то предлогом смылась домой и мы с Мартышкой остались на лавке вдвоем.
– Скууууучно тут у вас! – зевнула она.
Тут я почувствовала некую ответственность. Будто я хозяйка «медной горы» под названием бимарестан и должна немедленно доказать вновь прибывшей, что у нас тут – веселее не бывает!
– Да полно тут у нас мужиков! – с показным равнодушием пожала плечами я. – Тебя какие интересуют?
Глаза Мартышки загорелись:
– Взрослые, конечно! Интересные! Чтобы могли поухаживать, чтобы романчик закрутить! А не как эти… дети!
Для меня это звучало, словно предложение между делом слетать в космос. Я, конечно, уже любила и не однажды – и Грядкина, и Натика, а еще мне нравился дядя Володя из посольства. Иногда – в своем воображении, строго наедине сама с собой – я применяла к ним сцены из Тургенева и строки из Ахматовой. Но вот так взять и обозначить всю эту саму меня смущавшую вакханалию чувств выражением «закрутить романчик» я бы не смогла!
Я почувствовала по отношению к Мартышке благоговейный трепет – будто она знала что-то такое, чего не знала я. Должно быть, сбежавшая Тапоня даже в свои шесть лет была более цельной личностью и, почувствовав неладное, решила держаться подальше. Я же испытывала перед всем неизведанным жгучее любопытство – даже если подозревала, что оно за рамками одобрения взрослых.
– Ну и где они, твои мужики? – недоверчиво спросила Мартышка.
– Пойдем, покажу! – сдаваться я не собиралась.
Я потащила ее на «большак». Откровенно говоря, кроме санитара морга Мамну, наших садовников, троих водителей и старенького завхоза Аршали, других мужиков я не знала. Разве что еще больничного привратника Арсена и вахтера нашего дома дядю Колю-Носорога. Но едва ли Мартышка захотела бы, чтобы они за ней поухаживали.
Но иногда среди прогуливающихся по двору госпиталя пациентов действительно встречались приличные мужчины – в том смысле, что не очень старые и не сильно больные – то есть, без костылей и катетеров.
Вокруг фонтана в большом дворе степенно прогуливался всего один больной – из тех, про кого говорят «столько не живут». Но через секунду выяснилось, что это только в моем восприятии. Видимо, он вполне подходил под мартышкино определение «интересный мужик», потому что, заметив его, она одобрительно воскликнула:
– А я-то думала, что ты врешь!
Она потянула меня за руку и через секунду мы тоже степенно прогуливались под ручку вокруг фонтана, изучая намеченный Мартышкой объект. Он по-прежнему казался мне старым. Другое дело, что я не могла определить на глаз возраст незнакомых мне взрослых людей, мысленно деля их ровно на две категории – «как мои родители» и «старше моих родителей». Если человеку было больше сорока, то для меня уже не имело значения, сколько ему именно, сорок пять или семьдесят: он автоматически перемещался во вторую категорию. А она, в свою очередь, условно делилась на «столько не живут» (в нее попадали те, кто вел себя не сообразно своему почтенному возрасту), и на «аксакалов» – то есть, непререкаемых в силу своего старшинства авторитетов, доказавших, что они достойны уважения и послушания. Сюда относилась моя бабушка, наш посол, раис, наш сосед по заргандинской даче дядя Леня с женой и еще ряд тегеранских и московских знакомых.
Мартышкин избранник был явно старше моего папы, а звание «аксакала» еще ничем не заслужил, потому и попал в моих глазах в разряд «столько не живут». Хотя я и готова была признать, что для этой категории он выглядит совсем неплохо. Мужчин из отряда «столько не живут» я для удобства сравнивала с кем-нибудь из известных, но не знакомых мне лично людей из той же возрастной категории – чаще с артистами, которых я могла видеть на экране, плакатах или картинках в журнале. Если в отечественном кино и на советской эстраде подходящей ассоциации не находилось, в ход шел шах Мохаммед Пехлеви, президент Банисадр и актеры, которых я видела на наших закрытых просмотрах в конференц-зале. «Импортное» сравнение чаще применялось к местным: советские мужчины редко походили на шахов, президентов или зарубежных артистов. А больше и сравнивать было не с кем. Конечно, благодаря многочисленным портретам, я еще отлично помнила в лицо аятоллу Хомейни, Леонида Ильича Брежнева и Владимира Ильича Ленина, но знала, что с ними сравнивать никого нельзя: лидеры сравнению не подлежат, они всегда впереди.
Исходя из этих соображений, я назначила Мартышкиного больного Джеймсом Бондом, каким я увидела его в фильме «Мунрэкер» или «Лунный гонщик» в исполнении Роджера Мура.
– Не наврала! – похвалила меня Мартышка.
Наш больной был среднего роста, коренастый, светлокожий, светлоглазый и с резкими чертами лица. Я почему-то была уверена, что так выглядят немцы, хотя живого немца на тот момент никогда не видела, разве что в кино про Великую Отечественную войну. Такой тип мужской внешности я считала европейским, но лично мне он никогда не нравился. Зато Мартышку восхитил и выпирающий подбородок, и глубокие носогубные складки, и даже тонкие неулыбчивые губы – она заявила, что все это свидетельствует о мужественности и силе воли. Острые, как буравчики, небольшие серые глазки Мартышкиного пациента буравили асфальт, который он решительно мерил размашистыми шагами, сложив руки замком за спиной. Губы поджаты, неопределенного цвета волосы зачесаны набок – все, как у Роджера Мура. В моем понимании он был совершенно неинтересным – старым, некрасивым и слишком серьезным.
Но Мартышке все нравилось.
– Он богатый! – заявила она.
– С чего ты взяла? – удивилась я.
Мартышка уставилась на меня с удивлением:
– Сколько ты, говоришь, за границей живешь? Почти три года? А богатого от бедного до сих пор отличить не можешь?! Значит, ты дура! – подытожила моя новоиспеченная подружка.
– Сама дура! – обиделась я.
– Да ладно, не обижайся! – Мартышка ущипнула меня за щеку прямо как недавно мелкого Вовку-Бародара. – Я же любя! Учись, пока я жива! Смотри на его левую руку. Что видишь?
– Часы вижу.
– Отлично! Какие это часы? Опиши их! – потребовала Марта тоном учительницы. Для полного соответствия ей не хватало только указки, которой бы она тыкала в причиндалы больного, говорящие о его материальном статусе.
– Не знаю, – растерялась я. – Часы как часы.
– Эх ты! – протянула Мартышка разочарованно. – Как же ты жить-то будешь?! Ладно, слушай сюда внимательно!
Мартышка сообщила, что первым делом следует смотреть на часы: они не должны быть дешевой японской «штамповкой». А у «нашего» пациента они и вовсе золотые. Издалека она точно сказать не может, но его часы похожи на швейцарские. Дальше – ботинки. У рассматриваемого объекта их нет, но ему позволительно – он лежит в больнице. Зато какие у него тапки! Кожаные, на модной пробковой подошве, такие тапки стоят дороже иных ботинок! Теперь шея и руки. Тут у нашего пациента тоже все в ажуре: на шее – толстая золотая цепь с кулоном, камешек в котором сверкает на солнце так, что видно издалека. Руки у него ухоженные, без «трудовых» мозолей, на пальцах аккуратный «мужской» маникюр – ногти идеальной формы и тщательно отполированы. На безымянном пальце правой руки кольца нет – значит, не женат. Зато на среднем пальце правой руки внушительный золотой перстень с россыпью камней. Все это, по убеждению Мартышки, красноречиво свидетельствовало о том, что «с деньгами у этого парня все в полном порядке».
– Ну, ты прямо мисс Марпл! – восхитилась я. – Но мужик с кольцом на пальце – это как-то не очень…
Мне всегда казалось, что кольца, за исключением обручальных, исключительно женские украшения. А мужчин они превращают в героев индийского кино. Но Мартышка так не думала:
– Это не кольцо, а типично мужской перстень! – заявила она со знанием дела. – Такие украшения либо из поколения в поколение по мужской линии передаются, если семья знатная, либо делаются на заказ, что тоже неплохо.
– Пижаму его тоже будешь разбирать? – полюбопытствовала я.
– А чего ее разбирать? – махнула рукой Мартышка. – Видно, что не казенная: дорогая шелковая мужская пижама, синяя в тонкую бежевую полоску. Халат из шелкового габардина, подобран в тон, синий на бежевой подкладке, мне все нравится! Вкус есть, такни дорогие!
– Ты разбираешься в тканях на глаз?! – я вспомнила уроки труда в московской школе, на которых учительница уверяла: чтобы распознать состав материи, ее надо поджечь. Если пахнет паленой курицей и сгорает дотла, значит натуральная шерсть. А если плавится, скатываясь в черные шарик, значит, синтетика. А моя новая подруга, даже не поджигая пижаму и халат пациента, знает, из чего они!
– А что в них разбираться?! – пожала плечами Мартышка. – Я и шью неплохо. И моя мама всю жизнь за швейной машинкой. Знаешь, как она шьет?! От «фирмы» не отличишь! Подружки в очередь к ней стоят! Она даже джинсы приспособилась отшивать!
– А моя не умеет, – вздохнула я.
– Зато твоя в приемном покое работает, поэтому остальная информация по нашему больному – с тебя!
– Как это с меня?! – обомлела я.
– Ну твоя же мама ведет журнал учета, – разъяснила свою мысль Мартышка. – Вот ты и вызнай у нее отделение, в котором он лежит, имя и номер палаты. Ну и возраст на всякий случай. Хотя это не имеет особого значения, на вид подходит, это главное.
– Моя мама теперь не каждый день работает, – со слабой надеждой отвертеться от поручения сообщила я. – Чтобы она на первичной записи полдня посидела, надо чтобы я все это время посидела с братом.
– Понятно! – воскликнула Мартышка и картинно почесала затылок. – А когда ее нет, кто на приеме сидит?
– Сарочка с Розочкой, – ответила я. – Это местный персонал, а заодно и переводчицы.
– Они по-русски говорят? – уточнила Мартышка. – Вот и отлично! У них и спросишь!
– Но как?! Что я им скажу? Зачем мне этот дядька? Они же маме потом расскажут!
– Конечно, это вам не уроки ботанить, – снисходительно усмехнулась Мартышка, ей нравилось подтрунивать над тем, как серьезно мы с Серегой и Максом относимся к занятиям со Светланой Александровной. – Это посложнее будет. Но не дрейфь, Марта тебя всему научит!
– Кстати, а почему не приехала твоя мама? – спросила я, чтобы перевести разговор на другую тему.
– Тебе какую версию – официальную или правдивую? – невозмутимо уточнила Мартышка.
– Ну, наверное, правдивую лучше… – замялась я. – Если не секрет, конечно.
Мне вовсе не хотелось становиться хранительницей Мартышкиных семейных тайн, но так уж вышло.
– На самом деле родичи мои на грани развода, а сюда мать проводила меня словами «катись к своему папашке», – сообщила подруга ровным голосом.
Ее интонация не выражала ровным счетом ничего, поэтому я даже не поняла, расстраивает ее такое положение вещей или нет?! Для меня бы развод родителей означал катастрофу! Вернее, я даже представить себе не могла подобный поворот событий! Хотя, конечно, у многих моих московских знакомых родители были разведены. Но в Союзе дети этого стыдились и предпочитали умалчивать – особенно, если отцы у них все же были, просто не жили с их мамами. Я заметила, что те, кто встречался с отцами только по воскресеньям, рассказывали о своих папах гораздо чаще, чем те, чьи кто жил с ними под одной крышей. И предпочитали не уточнять, что папы в их жизни случаются раз в неделю. А те, у кого место папы занимал отчим, в кругу сверстников не уточняли, что это не родной отец. В Союзе в почете была модель «крепкой семьи» и все пытались ей соответствовать, хотя бы на словах. Исходя из этого, я решила успокоить Мартышку и сказала, что хорошо, что ее родители только «на грани», а еще не развелись. Я уверена, что ее мама с папой помирятся и в их семье все наладится. Но Мартышке мой прогноз явно пришелся не по душе: