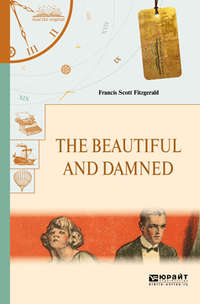Полная версия
Заметки о моем поколении. Повесть, пьеса, статьи, стихи
Я тоскливо посмотрел на кусок безымянного мяса, вяло лежащий в безжизненном соусе на моей тарелке.
– Полагаю, это козлятина, – предположила няня, проследив направление моего взгляда. Потом повернулась к моей жене. – Вы когда-нибудь пробовали козлятину, миссис Фицджеральд?
Но миссис Фицджеральд никогда раньше не пробовала козлятину; миссис Фицджеральд просто сбежала из ресторана.
На следующий день я в отчаянии бродил по отелю, уповая только на то, что наш дом на Лонг-Айленде пока не сдали и мы сможем на лето вернуться туда – и тут мне бросилось в глаза, что помещения опустели сильнее прежнего. Старых выпусков «Иллюстрированных лондонских новостей» вокруг оказалось даже больше обычного, пустых стульев – тоже. На ужин снова подали козлятину. Обводя взглядом пустой ресторан, я внезапно сообразил, что последний англичанин прихватил свою клюку и остатки разума и сбежал в Лондон. Неудивительно, что нам подали козлятину, – если бы подали что-то другое, это стало бы истинным чудом. Управляющий не закрывал отель в двести номеров только ради нас!
IIIВ Йере становилось все жарче; мы пребывали в тумане беспомощности. Теперь мы поняли, почему этот курорт так любила Екатерина Медичи. Месяц, проведенный здесь летом, – и она возвращалась в Париж, а в голове у нее шкворчали десятки святых Варфоломеев.[65] Вотще совершали мы поездки в Ниццу, на Антиб, в Сен-Максим – мы не на шутку разволновались: четверть нашего запаса в семь тысяч долларов уже растаяла. И вот однажды утром, ровно через пять недель после отбытия из Нью-Йорка, мы слезли с поезда в городке под названием Сан-Рафаэль, о котором раньше и вовсе не думали.
Городок этот красного цвета, стоит у самого моря; веселенькие домики под красными крышами, повсюду дух приостановившегося карнавала – карнавала, который еще до ночи наверняка выплеснется на улицы. Мы сразу поняли, что с удовольствием бы тут поселились, и спросили у местного жителя, где находится агентство по недвижимости.
– Ну, про это лучше спросить у короля! – воскликнул он.
Монархия! Второе Монако! А мы и не знали, что на французском побережье их два.
– А есть тут банк, где можно обналичить аккредитив?
– Об этом тоже лучше спросить у короля.
Он указал в сторону дворца, располагавшегося в конце длинной тенистой улицы; жена торопливо достала зеркальце и принялась пудрить лицо.
– Но у нас вся одежда в пыли! – робко заметил я. – Как вы полагаете, король…
Он призадумался.
– Насчет одежды я не знаю, – последовал ответ. – Но я полагаю… полагаю, что король вам и с этим поможет.
Такого я, честно говоря, не ждал, тем не менее мы поблагодарили его и с внутренним трепетом обратили свои стопы в сторону королевских покоев. Через полчаса, когда королевские башни так и не вырисовались на фоне неба, я остановил еще одного прохожего.
– Не могли бы вы указать нам дорогу к королевской резиденции?
– Чего?
– Мы хотели бы получить аудиенцию у его величества – его величества короля.
Слово «король» вроде бы показалось ему знакомым. Он понимающе раскрыл рот и указал на вывеску у нас над головами.
– «У. Ф. Король, – прочитал я, – англо-американский банк, агентство недвижимости, железнодорожные билеты, страховка, экскурсии, прокатная библиотека».
Заправлял этим заведением деловитый англичанин среднего возраста, за последние двенадцать лет постепенно скупивший весь Сан-Рафаэль.
– Мы – американцы, и мы приехали в Европу, чтобы сэкономить, – поведал ему я. – Мы прочесали всю Ривьеру от Ниццы до Вара и не нашли ни одной виллы. А деньги у нас понемногу тают.
Он откинулся на спинку стула, нажал кнопку, и почти в тот же миг в дверном проеме возникла высокая тощая женщина.
– Это Марта, – представил он. – Ваша кухарка.
Мы едва поверили своим ушам.
– Вы хотите сказать, что у вас найдется для нас вилла?
– Я вам ее уже подобрал, – ответил он. – Мои агенты видели, как вы утром выходили из поезда.
Он нажал еще одну кнопку, и рядом с первой женщиной почтительно встала вторая.
– Это Жанна, ваша горничная. Кроме того, она будет штопать и подавать на стол. Ей вы будете платить тринадцать долларов в месяц, а Марте – шестнадцать. Кроме того, Марта будет закупать продукты и немного на этом зарабатывать.
– А вилла…
– Контракт уже составляют. Цена – семьдесят девять долларов в месяц, я с радостью возьму чек. Мы перевезем вас туда завтра.
За следующий час мы посмотрели свое жилище – чистенькую прохладную виллу, стоявшую посреди большого сада на холме над городом. Именно такую мы и искали с самого начала. Там были беседка, песочница, две ванные, розы к завтраку и дворецкий, который обращался ко мне «милорд». Когда мы заплатили за аренду, у нас осталось всего три с половиной тысячи долларов, то есть половина нашего начального капитала. Однако мы чувствовали, что наконец-то начинаем жить практически бесплатно.
IVБлиже к вечеру 1 сентября 1924 года на одном из песчаных пляжей Франции можно было наблюдать приятного вида молодого человека в сопровождении молодой дамы в коротком ярко-голубом купальном костюме. Оба загорели до густо-шоколадного цвета и поначалу казались египтянами; однако при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что черты лица у них типично арийские, а голоса – если они открывали рот – звучали слегка в нос, по-североамерикански. Рядом возилось черное дитя с белыми, как хлопок, волосами, которое время от времени принималось стучать оловянной ложкой по ведерку и вопило: «Regardez-moi!»[66] – имея на то полное право.
Из казино неподалеку доносилась странная рококошная музыка, песня об отсутствии конкретного фрукта желтого цвета в некоем магазине, в целом не жалующемся на бедность ассортимента.[67] Официанты, сенегальцы и европейцы, носились между купальщиками, разнося разноцветные напитки, время от времени останавливаясь, чтобы отогнать детишек из бедных семей, которые без всякой скромности и стеснения одевались и раздевались на песке.
– Отличное было лето, правда? – произнес молодой человек лениво. – И мы окончательно офранцузились.
– А французы – все такие эстеты, – заметила молодая дама, вслушавшись в банановую мелодию. – Они умеют жить. Вспомни хотя бы, какая у них вкусная еда!
– Прекрасная! Отменная! – воскликнул молодой человек, раскладывая ломтики американской ветчины на галеты из пачки с надписью «Спрингфилд, Иллинойс». – Еще бы, ведь они изучают еду уже две тысячи лет.
– И здесь все такое дешевое! – с воодушевлением воскликнула молодая дама. – Например, духи! Духи, которые в Нью-Йорке стоят пятнадцать долларов, здесь можно купить за пять.
Молодой человек чиркнул шведской спичкой и зажег американскую сигарету.
– Главная проблема большинства американцев во Франции, – проговорил он зычным голосом, – состоит в том, что они не живут настоящей французской жизнью. Они торчат в больших гостиницах, обмениваются свежими американскими новостями.
– Знаю, – согласилась его спутница. – Как раз про это написано в сегодняшней «Нью-Йорк таймс».
Американская музыка смолкла, а няня-англичанка поднялась, намекая на то, что ребенку пора домой ужинать. Молодой человек вздохнул, тоже поднялся и встряхнулся – вокруг в изобилии разлетелся песок.
– Надо будет остановиться по дороге и купить аризонского бензина, – заметил он. – А то в прошлый раз залили в автомобиль какую-то гадость.
– Чек, сыр, – обратился к нему официант-сенегалец с акцентом, обретенным куда ниже линии Мейсона-Диксона. – Десять франков за два бокала пива.
Молодой человек вручил ему эквивалент семидесяти центов в золотистых французских жетончиках. Пиво, пожалуй, стоило немного дороже, чем в Америке, однако не жалко было и переплатить за право слушать аутентичную песню в исполнении настоящего – или почти настоящего – джаз-банда. А дома молодого человека дожидался настоящий французский ужин: печеная фасоль из малоизвестного древнего норманнского городка Экрона в штате Огайо, омлет, благоухающий чикагским беконом, и чашка английского чая.
Полагаю, вы уже признали в двух этих утонченных европейцах тех самых американских варваров, которые уехали из родной страны всего пятью месяцами раньше. Возможно, вы изумились, как это им удалось столь быстро измениться. Дело в том, что они полностью погрузились в жизнь Старого Света. Вместо того чтобы ошиваться в «туристических» отелях, они совершали вылазки в причудливые ресторанчики, расположенные вдали от исхоженных путей, обладающие подлинной французской атмосферой, где ужин на двоих редко стоил больше десяти-пятнадцати долларов. К чему им столичный блеск – Париж, Брюссель, Рим, им довольно коротких поездок в живописные старинные города, такие как Монте-Карло, где в один прекрасный день они оставили свой автомобиль у симпатичного владельца гаража, который оплатил их гостиничный счет и купил им билеты домой.
Да, лето действительно удалось. И жили мы практически бесплатно – с того момента, когда закончились наши семь тысяч долларов. А они взяли и закончились!
Беда в том, что мы приехали на Ривьеру в несезон – точнее, после окончания одного сезона, но в разгар другого. Летом на юг приезжают люди, которые «хотят сэкономить», и ушлые французы давно уже сообразили, что более легкой добычи просто не существует: люди, которые хотят что-то получить задарма, вообще легкая добыча.
На что именно мы потратили деньги, мы не знаем, но это обычное дело. Например, прислуга: мне очень нравились Марта и Жанна (а потом еще их сестры Эжени и Серполетта, которые приехали им помогать), но по собственному почину я никогда не стал бы покупать им медицинскую страховку. Оказалось, что по закону я обязан это сделать. Если бы Жанна задохнулась под своим накомарником, а Марта наступила на кость и сломала большой палец, отвечал бы за это я. Да я бы, собственно, и не возражал, если бы Мартино «немного зарабатывать» на закупке продуктов не доходило, по моим подсчетам, до сорока пяти процентов.
Недельные счета от бакалейщика и мясника равнялись примерно шестидесяти пяти долларам – то есть были больше тех, которые мы получали на дорогом Лонг-Айленде. Сколько бы там ни стоило это мясо, есть его почти всегда было невозможно, а что касается молока, его приходилось кипятить до последней капли, потому что французские коровы страдали туберкулезом. Из свежих овощей мы ели помидоры и иногда спаржу, а больше ничего – чеснок нам бы удалось скормить разве что во сне. Я часто гадал, как представители ривьерского среднего класса – например, банковские клерки, которые содержат семью на сорок-семьдесят долларов в месяц, – не умирают голодной смертью.
– Зимой еще хуже, – поведала нам на пляже девчушка-француженка. – Англичане и американцы так вздувают цены, что нам тут ничего не купить и мы прямо не знаем, что и делать. Моей сестре пришлось уехать в Марсель и найти там работу, а ей всего четырнадцать лет. На будущий год я тоже поеду.
В общем, тут попросту всего не хватает – и американцы, привыкшие к высоким стандартам материального комфорта, хотят получать самое лучшее из доступного, за что, естественно, приходится платить. Кроме того, ушлые французские торговцы так и норовят воспользоваться американской беспечностью.
– Мне не нравится этот счет, – говорю я поставщику продуктов и льда. – Мы договаривались на пять, не на восемь франков в месяц.
Чтобы выиграть время, он бормочет нечто неразборчивое.
– Общую сумму считала моя жена, – говорит он наконец.
Полезные они люди – ривьерские жены! Вечно они делают подсчеты для своих мужей и, похоже, плохо отличают одну цифру от другой. Обладай таким талантом жена директора какой-нибудь железной дороги, на ее недочетах можно было бы заработать несколько миллионов.
Пока я пишу, надвинулись сумерки, темнота за моим окном наползает на купы деревьев, переливчатыми оттенками зелени сбегающие к вечернему морю. Пылающее солнце уже завалилось за пики Эстерелей, взошла луна над римскими акведуками Фрежюса в пяти милях отсюда. Через полчаса придут ужинать Рене и Бобе, офицеры-авиаторы в белоснежных кителях; Рене всего двадцать три года, он так и не оправился оттого, что пропустил войну, и он начнет повествовать романтическим голосом, как он мечтает покурить опиум в Пекине и как кое-что сочиняет «исключительно для себя». Потом в саду, когда в воздух прольется новая порция темноты, кители их потускнеют, и в конце концов они, как и тяжелые розы и соловьи в сосновых ветвях, станут органичной и неотъемлемой частью красоты этого гордого, жизнелюбивого края.
И хотя денег мы так и не сэкономили, мы танцевали карманьолу, а еще, если не считать того дня, когда жена глотнула лосьона от комаров вместо ополаскивателя для рта, и другого дня, когда я попытался выкурить французскую сигарету и, как определил бы это Ринг Ларднер, «упал без чувств», мы ни разу не пожалели, что приехали сюда.
Темно-коричневое дитя стучит в дверь, чтобы пожелать мне спокойной ночи.
– Поплывем на большом кораблике, папа? – говорит оно на нетвердом английском.
– Нет.
– Почему?
– Попробуем пожить здесь еще годик. А кроме того – не забывай, какие тут духи!
С дочкой мы всегда говорим только так. Она считает нас самой остроумной из всех известных ей супружеских пар.
«Подождите, пока у вас не появятся собственные дети!»[68]
То поколение, которое некогда считалось молодым (я имею в виду то самое, которое вырвалось на сцену в 1919 году и стало предметом бесконечных пересудов), регулярно выслушивало этот угрожающий рефрен. Ну что ж, представители этого молодого поколения теперь стали родителями. Они смотрят на новый мир, который вылепился из хаоса войны, и пытаются решить, в чем воспитание их детей будет отличаться от их собственного.
Под словом «воспитание» я в данном случае понимаю полный набор привычек, идеалов и предрассудков, который дети в возрасте от двух до шестнадцати лет усваивают от родителей. Скорее, я понимаю даже больше – понимаю то, что понимал мой отец, когда однажды выразил надежду, что моя жизнь будет отличаться от его. Он надеялся, что я получу в руки более тонкие инструменты для противостояния миру.
Все родители желают этого для своих детей – кроме тех, которые настолько тупы и самодовольны, что мечтают, чтобы дети стали такими же, как они. На одного родителя, который в сорок лет откидывается на спинку стула и объявляет своему чаду: «Посмотри на этого идеального мужчину (женщину), которого (которую) Бог сотворил в качестве примера для тебя!» – приходится по трое тех, которые считают, что дети должны идти дальше родителей, которые хотят, чтобы дети не следовали слепо по их стопам, а учились на их ошибках.
Нельзя забывать, что идеи, предрассудки и даже сама истина постоянно видоизменяются и то, что одному поколению – молоко, для другого может оказаться ядом. Молодые американцы моей эпохи видели подобное превращение собственными глазами, и по этой причине не станут совершать ту самую первичную ошибку: пытаться научить детей слишком многому. К тридцатилетнему возрасту любой человек успевает набрать в голову, наряду с некоторым количеством мудрости, огромное количество трухи и глупостей; трудность состоит в том, чтобы передать детям эту самую мудрость, не вываливая на них одновременно глупости и труху. Все, что мы можем сделать, – это преуспеть в этом чуть больше предыдущего поколения: когда какое-нибудь достигнет в этом полного успеха, то есть сумеет передать следующему все свои достижения и ни единого заблуждения, дети его получат в наследство весь мир.
Начнем с того, что ребенку моему предстоит существовать в обстоятельствах, о которых я не имею ни малейшего представления. Возможно, ему выпадет жить в коммунистическом государстве, или жениться на марсианке, или сидеть под электрическим вентилятором на Северном полюсе. Лишь одну вещь я могу утверждать с полной уверенностью насчет мира, в котором ему предстоит жить: мир этот не будет столь же жизнерадостным, как тот, в котором родился я. Никогда вера в светлое будущее человечества не была так сильна, как в девяностые годы, – и почти никогда она не ослабевала до нынешней степени. Когда вокруг наблюдается полный упадок идеалов поведения, тому должна быть веская причина. Творить зло в вакууме просто невозможно. Мир приобрел некий серьезный изъян (какой именно – понимают только профессиональные проповедники, авторы дешевых романов и коррумпированные политики, да и те неверно). Только отважное сердце способно плыть против течения по этим мутным водам и не развить в себе, подобно моему поколению, толики цинизма, толики подозрительности, толики печали. Мы стали свидетелями войны и сопровождавшей ее жестокости, истерии одновременно и коммунистов, и (здесь, у нас) «стопроцентных американцев», облапошивания инвалидов-ветеранов[69], коррумпированности чиновников, скандального сухого закона – что же странного в том, что мы чуть не с ужасом открываем по утрам газеты, опасаясь, что увидим там сообщение о новой трещине в цивилизации, о новом изъяне, открывшемся в темной комнате, называемой человеческой душой!
Именно такой мир сейчас предстает глазам наших детей. Я недавно оказался в палате, где лежала молодая мать, только что родившая своего первенца. Это была прекрасно образованная, очень культурная молодая женщина, в распоряжении которой доселе всегда были все блага мира, у которой были также основания полагать, что блага эти останутся у нее навсегда. Очнувшись от наркоза, она обернулась к сиделке с вопросом; сиделка склонилась над ней и произнесла:
– У вас родилась прелестная девочка.
– Девочка?
Молодая мать открыла глаза, потом закрыла их снова. А потом внезапно расплакалась.
– Ну и пусть, – сказала она сквозь слезы. – Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть хорошенькой дурочкой.[70]
Разумеется, несмотря ни на что, лишь немногим из нас хватает отчаяния – или логики, чтобы дойти до подобного пессимизма. Мы не хотим, чтобы дочери наши были хорошенькими дурочками, а сыновья – «пышущими здоровьем животными», несмотря на то что это избавило бы их от многих страданий. Более того, мы хотим, чтобы они имели представление о том, что такое чековая книжка и уютный дом. Мы хотим, чтобы они выросли порядочными, достойными – и хотя в данный момент язык у меня не поворачивается добавить «законопослушными», по крайней мере – способными проголосовать против законов, которым не считают возможным подчиняться.
Могу представить себе, как молодой отец, родившийся, как и я, в середине девяностых, обращается к новорожденному сыну примерно с такой речью:
– Я не хочу, чтобы ты стал таким же, как я, – говорит он, стоя над колыбелью. – Я хочу, чтобы в твоей жизни нашлось место чему получше. Я хочу, чтобы ты вращался в кругах политиков, где не только у одного из десяти чистые руки. А если ты станешь бизнесменом, я хочу, чтобы ты разбирался в бизнесе лучше, чем я. Между прочим, сынок, если не считать нескольких детективов, я после окончания колледжа не прочел ни одной книжки. Мое любимое развлечение – играть в гольф или в бридж вместе с толпой таких же, как я, тупиц, по ходу дела прихлебывая контрабандный джин, дабы забыть, какие мы тупицы. Я не имею никакого представления о науке, литературе, живописи, архитектуре, даже об экономике. Я верю во все, что пишут в газетах, так же как и мой прораб. Во всем, кроме своей непосредственной работы, я полный невежда, я и голосовать-то едва пригоден – но я хочу, чтобы ты вырос другим человеком, и я дам тебе такую возможность, и да поможет мне бог.
Надо сказать, это совсем не похоже на то, что собственный его отец говорил ему в 1896 году. Тот изрекал примерно следующее:
– Я хочу, чтобы ты добился успеха. Хочу, чтобы ты усердно трудился и заработал много денег. Не дай никому себя обмануть и сам никого не обманывай, потому что тогда ты сядешь в тюрьму. Не забывай, что ты – американец, – (вместо этого можно подставить «англичанин», «француз» или «немец» – одна и та же речь произносилась на разных языках), – и все остальные нации нам в подметки не годятся, так что помни: все, во что не верит наша нация, скорее всего, полная чушь. Я учился в колледже и читаю газеты, так что уж я-то знаю.
Узнаёте? Это философия девятнадцатого столетия, философия личного эгоизма и национальной заносчивости, которые привели к Великой войне и стали косвенной причиной страшной смерти многих миллионов молодых мужчин.
По крайней мере, новорожденный ребенок, наш ребенок, начинает с несколько другой точки. Побывав на войне, а возможно, даже участвовав в боях, отец его не питает ненависти к немцам – ее он оставляет тем, кто не нюхал пороха, – и, возможно, помнит, что жизнь в Париже почти столь же приятна, как и в Поданке, штат Индиана. Ему решительно наплевать, будет ли его сын петь в школе национальный гимн, поскольку ему доподлинно известно, что показной патриотизм ровным счетом ничего не значит и что Гровер Кливленд Бергдолл тоже когда-то выводил писклявым голоском: «Страна моя, тебе пою» – по указанию учительницы.[71] Наш молодой отец вообще не испытывает неестественного доверия к школам – пусть даже они вполне хороши, – потому что ему известно, что учителя тоже люди, что они не гении, а обычные молодые, не слишком образованные трудяги, которые зарабатывают свой хлеб, стараясь изо всех сил. Ему известно, что школы по сути своей – рассадники стереотипов в и без того стереотипной стране. Ребенку там вобьют в голову идеалы работящего лавочника, с оглядкой на висящие на стене портреты Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона – на двух этих президентов-романтиков, которых недоумки-биографы и авторы слюнявых рассказов стремительно превращают в иллюстрации к учебникам для воскресной школы.
Нет, молодой отец сознает, что в школе детям его, по всей видимости, не смогут внушить идеалы, пригодные для современного мира. Если он хочет, чтобы на душе его ребенка отпечаталось хоть что-то, помимо истертых канцелярских штампов, этим его душу нужно напитывать дома. Система образования – настолько колоссальное предприятие, что при управлении им никак не обойтись без условностей. Однако молодой отец вовсе не обязан следовать условностям и потчевать своего ребенка нелепо-дешевыми измышлениями касательно жизни. Полагаю, он и не станет – самые суровые критики этого поколения не решатся обвинить его в показной скромности. У детей представителей этого поколения есть как минимум это преимущество над моими современниками, которые успевали выучить все грязные ругательства, существующие в английском языке, еще до того, как узнавали хоть что-то о стороне жизни, которую представляли им в полностью искаженном виде.
Кстати, я не хочу создать впечатление, что молодые представители и представительницы моего поколения так и фонтанируют идеями касательно того, как со стопроцентной вероятностью превратить своих детей в Авраамов Линкольнов. Напротив, они склонны предохранять своих детей от законсервированной дряни, которой полно в этом мире. Они знают, что лучше прочитать одну хорошую книгу, например «Историю человечества» ван Лоона[72], чем сто томов «Классики для детей», составленных каким-то профессором-маразматиком. А поскольку они страшно боятся того, что дети их станут потреблять культуру в виде консервов, они пуще прочего будут предохранять детей от законсервированного вдохновения, которое превратилось у нас в общенациональную чуму. Дружба с человеком постарше, мудрым и состоявшимся, великое благо – но людей таких немного, по три на каждый город не наберется. А заменители такой дружбы – лекции профессиональных «педагогов» и авторов рассказов для юношества, – на мой взгляд, представляют реальную опасность.
Опасность эта состоит в излишне громких призывах. Мальчики и девочки, которые каждый день приходят домой с новой идеей: срочно заняться украшением дома, или сбором старой одежды для жителей Лапландии, или благородным самоотречением (ровно раз в неделю), – это мальчики и девочки, чьи мозги через несколько лет превратятся в забитые хламом сорочьи гнезда. Я не хочу, чтобы моего ребенка постоянно к чему-то призывали разные недоумки, от корыстных патриотов до киномагнатов, которые непрестанно роются в пыльных грудах избитых идей, кои можно всучить молодежи. Понятно, в результате ребенка скоро утомят радио и необходимость помогать соседям; я совершенно не возражаю против каких бы то ни было способов отвлечения, но постоянная смена этих способов губит в ребенке энтузиазм и оставляет неизлечимые раны на его разуме. Он уже не способен оценить и даже осмыслить что-либо, помимо того, что подается ему в виде консервов или полуфабрикатов, – консервированная музыка, консервированное вдохновение, даже консервированные игры, – так что ничего нет удивительного в том, что, став взрослым, он будет вместилищем законсервированных взглядов и законсервированных идеалов.
– Однако, – возразит мне реалист, – вашим детям, как и моим, предстоит расти в мире, который совершенно вам неподконтролен. Если запрещать им все эти вещи, не вырастут ли они в кольце ограничений – подобных тем, которыми были когда-то окружены и вы и по поводу которых так сетовали?