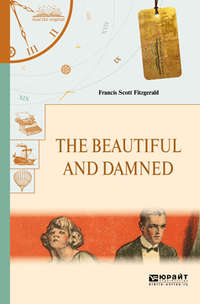Полная версия
Заметки о моем поколении. Повесть, пьеса, статьи, стихи
Например, то, что вы расходуете на посещение театров, должно составлять половину расходов на лекарства. Это позволяет нам ходить в театр один раз в пять с половиной месяцев, то есть на два с половиной спектакля в год. Первый спектакль мы уже выбрали, однако, если через пять с половиной месяцев его снимут с репертуара, будем считать, что нам не повезло. Расходы на газеты должны составлять четверть того, что мы тратим на самообразование, так что теперь мы думаем, покупать ли нам воскресную газету раз в месяц или подписаться на альманах.
В рамках этого бюджета мы может себе позволить три четверти домашней прислуги, так что теперь мы ищем одноногую кухарку, которая работала бы шесть дней в неделю. Кроме того, составитель этого бюджета, по всей видимости, живет в городе, где в кино по-прежнему можно сходить за пять центов, а побриться – за десять. Впрочем, мы собираемся отказаться от статьи расходов, озаглавленной «Иностранные миссии и пр.» и пустить эти деньги на преступную жизнь. Впрочем, надо сказать, что хотя в этом пироге и нет куска под названием «Неучтенка», в остальном система выглядит исчерпывающей, а согласно отзывам на задней стороне обложки, если в этом году мы опять заработаем 36 000 долларов, нам удастся сэкономить примерно 35 000.
– Но первые-то тридцать шесть тысяч уже никогда не вернешь, – жалуюсь я во всеуслышанье. – Если бы от них остались хоть какие-то материальные свидетельства, было бы не так обидно.
Жена надолго задумалась.
– Единственное, что ты можешь сделать, – сказала она наконец, – это написать для журнала статью и озаглавить ее «Как жить на тридцать шесть тысяч долларов в год»!
– Совершенно неумное предложение! – ответил я холодно.
Как жить целый год практически бесплатно[56]
I– Ну хорошо, – сказал я с надеждой в голосе. – И сколько там получилось за месяц?
– Две тысячи триста двадцать долларов и восемьдесят два цента.
Пошел пятый из пяти долгих месяцев, на протяжении которых мы пытались всеми доступными нам средствами добиться того, чтобы расходы не превышали доходы. Нам удалось сократить покупку одежды, продуктов и предметов роскоши; по большому счету нам удалось все – только не сэкономить.
– Давай бросим это дело, – мрачно предложила жена. – Смотри, вон еще один счет; я его даже не открывала.
– Это не счет, там марка французская.
Это было письмо. Я прочитал его вслух, а после этого мы посмотрели друг на друга со взбудораженным предвкушением.
«Не понимаю, почему все не перебираются сюда, – говорилось в письме. – Я вот пишу из маленькой французской таверны, где только что по-королевски пообедал, запил еду шампанским, – а стоило все это, смешно сказать, шестьдесят один цент. Жизнь здесь дешевле как минимум раз в десять. С того места, где я сижу, видны окутанные дымкой вершины Альп над городком, который успел состариться еще до рождения Александра Македонского…»
В третий раз мы дочитали письмо уже в машине, по дороге в Нью-Йорк. Через полчаса мы влетели в пароходную контору, перевернули письменный стол и вдавили мальчишку-посыльного в стену; агент воззрился на нас в некотором удивлении.
– Ни слова, – сказал он. – Вы двенадцатая пара за это утро, и я все понимаю. Вы только что получили из Европы письмо от друга с описанием тамошней дешевизны и намереваетесь отплыть туда незамедлительно. Сколько вас?
– Один ребенок, – выдохнули мы хором.
– Прекрасно! – воскликнул он, раскидывая на столешнице колоду карт. – Карты говорят, что вас ждет нежданная дальняя дорога, болезнь, а также встречи с темными личностями, как женщинами, так и мужчинами, которые не сулят вам ничего хорошего.
После того как мы, навалившись, вышвырнули его в окно, где-то между шестнадцатым этажом и улицей прогремел его голос:
– Отплывать вам через неделю!
IIКак вы понимаете, когда семейство отправляется за границу в целях экономии, путь его лежит не на выставку в Уэмбли[57] и не на Олимпийские игры – собственно, не едут такие семейства ни в Лондон, ни в Париж; все они устремляются на Ривьеру, на южный берег Франции, который считается самым дешевым, равно как и самым живописным местом в мире. Более того, мы-то ехали на Ривьеру в несезон, а это то же, что поехать в Палм-Бич в июле. Когда в конце весны сезон на Ривьере завершается, все богатые англичане и американцы откочевывают в Довиль и Трувиль, а все казино, дорогие ателье и ювелирные мастерские, равно как и воры-домушники, сворачивают дело и следуют за своим стадом к северу. Цены незамедлительно падают. Ривьерские аборигены, всю зиму перебивавшиеся с рыбы на рис, вылезают из своих пещер, покупают бутылку красного вина и идут поплескаться в родном море.
А вот для двух перековавшихся транжир летняя Ривьера представлялась самым подходящим местом. Итак, мы передали свой дом в руки шести агентов по недвижимости и отбыли во Францию под оглушительные аплодисменты многочисленных друзей, собравшихся на причале, – оба они с энтузиазмом махали руками, пока пароход не скрылся из виду.
Мы поняли, что смогли сбежать – от роскоши и показного блеска, от диких излишеств, среди которых провели пять суматошных лет, от торговцев, которые нас надували, от няньки, которая нас третировала, и от «четы», которая вела наше домашнее хозяйство и знала нас уж слишком хорошо. Мы направлялись в Старый Свет, дабы обрести там новый ритм существования; при себе у нас имелась уверенность, что с прежними собой мы расстались навеки, а также капитал чуть больше семи тысяч долларов.
Неделю спустя нас разбудило солнце, вливавшееся в высокие окна во французском стиле. Снаружи пронзительно и разборчиво визжали непривычными голосами автомобильные гудки, и мы сообразили, что мы в Париже. Малышка уже сидела в кроватке, звоня в колокольчики, которые призывали различную гостиничную прислугу; похоже, ей хотелось начать день незамедлительно. Это был действительно ее день, потому что в Париж мы приехали с одной целью: найти ей няню.
– Entrez![58] – выкрикнули мы хором, заслышав стук в дверь.
Дверь открыл смазливый официант и шагнул внутрь; дочь наша перестала наигрывать мелодию и уставилась на него с явным неодобрением.
– В улице вас стоять мадемуазель, – сообщил он.
– Говорите по-французски, – распорядился я сурово. – Мы тут все говорим по-французски.
Некоторое время он говорил по-французски.
– Ладно, – прервал я его наконец. – Скажите то же самое еще раз, очень медленно, по-английски; я не все понял.
– Его зовут Антре, – попыталась помочь мне дочка.
– Это не важно, – взвился я. – По-французски он говорит очень плохо.
В конце концов нам удалось уяснить, что снаружи дожидается гувернантка-англичанка, пришедшая по объявлению, которое мы накануне поместили в газете.
– Попросите ее подняться.
Через некоторое время в комнату вплыла рослая томная особа в шляпке с рю-де-ля-Пэ[59]; мы попытались принять вид, исполненный достоинства, хотя все еще сидели в постели.
– Вы американцы? – осведомилась она, усаживаясь с тщанием, исполненным укоризны.
– Да.
– Как я поняла, вам требуется няня. Вот к этому ребенку?
– Да, мадам.
(Мы пришли к выводу, что перед нами некая высокородная дама, близкая ко двору, временно попавшая в стесненные обстоятельства.)
– У меня богатый опыт, – проговорила она, подходя к дочери и безуспешно пытаясь взять ее за руку. – По сути, у меня есть все навыки медсестры. Я благородного происхождения и никогда не жалуюсь.
– На что не жалуетесь? – уточнила жена.
Претендентка сделала рукой некий невнятный жест:
– Ну, например, на питание.
– Подождите, – сказал я, глядя на нее с подозрением. – Прежде чем продолжить разговор, я хотел бы спросить, какое вы собираетесь попросить жалованье.
– У вас… – Она помедлила. – Сто долларов в месяц.
– Но вам не придется готовить, – уверили ее мы. – Только присматривать за ребенком.
Она встала и с изысканным презрением поправила боа из перьев.
– Тогда посоветую вам найти няню-француженку, – сказала она, – раз уж вы люди такого сорта. Она не будет открывать окна по ночам, ваш ребенок никогда не узнает, как по-французски «ванна», однако ей достаточно будет платить десять долларов в месяц.
– Всего хорошего, – сказали мы хором.
– Я согласна на пятьдесят.
– Всего хорошего, – повторили мы.
– На сорок – и я буду стирать детские вещи.
– Нам вас и даром не нужно.
Когда она закрывала дверь, гостиница слегка вздрогнула.
– Куда тетя ушла? – поинтересовалась дочка.
– Она охотится на американцев, – ответили мы. – Посмотрела в гостиничном реестре, и ей показалось, что рядом с нашей фамилией написано: «Чикаго».
При дочке мы всегда стараемся проявлять чувство юмора – она считает нас самой остроумной из всех известных ей супружеских пар.
После завтрака я отправился в парижское отделение нашего американского банка за деньгами, но едва я туда вошел, как пожалел, что не остался в гостинице или как минимум не вошел через задний ход, потому что меня, похоже, узнали и снаружи начала собираться огромная толпа. Толпа все росла, я уже подумал, не подойти ли к окну и не произнести ли речь, однако потом решил, что от этого волнения только усилятся, так что я просто огляделся в поисках дельного совета. Впрочем, никаких знакомых лиц я не увидел, за исключением одного клерка и мистера и миссис Дуглас Фэрбенкс[60] из Америки, которые покупали франки у задней стойки. Я решил не светиться, и, понятное дело, пока я обналичивал чек, толпа успела рассосаться.
Я считаю, что мы молодцы, что уехали из Парижа девять дней спустя – всего-то на неделю позднее, чем собирались. Каждое утро на бульвары выплескивалась новая толпа американцев, каждый день наш номер наводняли знакомые лица, и, если не считать отсутствия привкуса древесного спирта в закусках, все было совсем как в Нью-Йорке. Но вот наконец, с остатком в шесть с половиной тысяч долларов и с няней-англичанкой, которую удалось нанять за двадцать шесть долларов в месяц, мы уселись в поезд, идущий на Ривьеру, на жаркий и милый французский юг.
Когда взор ваш падает на Средиземное море, вы немедленно понимаете, почему именно здесь человек впервые встал с четырех конечностей на две и протянул руки к солнцу. Это море синего цвета – точнее, даже слишком синего для этой избитой фразы, которой описывают любой тинистый водоемчик от одного полюса до другого. Это сказочная синева картин Максфилда Пэрриша[61], синева синих книг, синей масляной краски, синих глаз, а дальше вдоль берега на сотню миль тянется в тени гор зеленый пояс, превращая это место в игровую площадку для всего мира. Ривьера! Названия здешних курортов – Канны, Ницца, Монте-Карло – заставляют вспомнить о сотнях королей и принцев, которые, лишившись тронов, приезжали сюда умирать, о загадочных раджах и беях, швырявших голубые бриллианты английским танцовщицам, о русских миллионерах, просаживавших целые состояния в рулетку в довоенные икорные дни, что канули в Лету.
Весь мир, от Чарльза Диккенса до Екатерины Медичи, от Эдуарда, принца Уэльского, в зените его славы до Оскара Уайльда в надире его позора, приезжал сюда забыться или возрадоваться, спрятать лицо или выставить напоказ, строить белые замки на деньги, заработанные угнетением, или писать книги, которые порой способствовали разрушению этих замков. Под полосатыми тентами у моря великие князья, игроки и дипломаты, благородные куртизанки и балканские царьки неспешно покуривали сигары, пока 1913 год сменялся 1914-м, не моргнув календарем, и буря зрела на севере, та, которая потом смела три четверти всех этих людей.
До Йера[62], куда и держали путь, мы добрались в пылающий жаром полдень, тут же почувствовав дыхание тропиков, исходившее из сосновых рощ. Извозчик со здоровенным яйцевидным волдырем в самом центре лба устроил с одетым в ливрею гостиничным портье потасовку за наш багаж.
– Же суи иностранец, – произнес я на безупречном французском. – Же вудре алле в лучший отель в городе.
Портье указал на величественный автобус, стоявший рядом. На боку у него было написано по-французски: «Гранд-отель Парижа и Рима».
– Так который лучший? – уточнил я.
Вместо ответа он ухватил самый тяжелый наш чемодан, прикинул на руку, со всех сил стукнул извозчика по лбу – я сразу понял, что волдырь у того разрастался постепенно, – и решительно погнал нас к автобусу. Я бросил несколько десятицентовиков – вернее, франков на простертое тело возницы с волдырем.
– Жарко, однако, – заметила няня.
– А мне нравится! – ответил я, промокая лоб и пытаясь изобразить прохладную улыбку.
Я чувствовал, что нравственная ответственность за случившееся лежит на мне, – это я выбрал Вар, причем по одной-единственной причине: один приятель как-то провел тут зиму. Да и вообще, мы сюда приехали не ради прохлады, а ради экономии, чтобы прожить целый год практически бесплатно.
– Все равно жарко, – отметила моя жена, а миг спустя дитя возопило: «Снять пальто!» – имея на то полное право.
– Он, видимо, решил, что мы хотим осмотреть город, – заметил я, когда, проехав с милю по обсаженной пальмами дороге, мы остановились на какой-то дряхлой, похожей на мексиканскую площади. – Стойте!
Последняя реплика была выкрикнута в тревоге, ибо портье стремительно выгружал наши чемоданы перед входом в какую-то обшарпанную забегаловку. На разлохмаченной маркизе над входом было выведено: «Гранд-отель Парижа и Рима».
– Это что, шутка? – вопросил я. – Я ведь попросил вас отвезти нас в лучший отель в городе.
– Это он и есть, – заявил портье.
– Ничего подобного. Это худший отель. Худший из всех, какие я когда-либо видел.
– Я – владелец, – поведал портье.
– Простите, но у нас ребенок… – (няня послушно подняла ребенка повыше), – и нам нужно что-нибудь поновее, с ванной.
– У нас есть ванна.
– Я имею в виду – с ванной в номере.
– Ну, так мы не будем там пользоваться, пока вы здесь живете. А все большие отели уже закрылись, потому что лето.
– Не верю ни единому слову, – сказала жена.
Я беспомощно огляделся. Из дверей вышли две неопрятные, голодного вида женщины – они хищно рассматривали наш багаж. И тут вдруг раздался неспешный цокот копыт, и, подняв глаза, я увидел извозчика с волдырем, который уныло следовал по пыльной улице.
– Где лучший отель в городе? – крикнул я ему.
– Нон, нон, нон! – завопил он, возбужденно размахивая поводьями. – Отель «Жарден» открытый!
Владелец «Гранд-отеля Парижа и Рима» выпустил мою руку и припустил в погоню за извозчиком, а я с упреком посмотрел на голодного вида дам.
– Зачем вам нужен такой автобус? – осведомился я.
Я чувствовал свое американское превосходство; в подтексте прочитывалось: нравы французов упали до такого уровня, что мне остается лишь пожалеть о нашем вступлении в войну.
– Папе тоже жарко, – не к месту вставило дитя.
– Мне не жарко!
– Лучше бы папа перестал рассуждать и нашел нам гостиницу, – заметила няня-англичанка, – пока мы тут все не растаяли.
У нас ушел всего-то час на то, чтобы расплатиться с владельцем «Гранд-отеля Парижа и Рима», прибавить ему за оскорбленные чувства и вселиться в «Жарден», расположенный на окраине города.
«Йер, самый древний и доброжелательный из зимних курортов Ривьеры, – гласил мой путеводитель, – теперь посещают почти одни только англичане». Впрочем, когда мы прибыли туда в конце мая, даже англичане, за исключением самых древних и доброжелательных, уже отчалили. По некоторым признакам когда-то отель «Жарден» был обитаем – в холле валялись старые выпуски «Иллюстрированных лондонских новостей», однако теперь, как мы выяснили за ужином, здесь осталась лишь дюжина дряхлых, дюжина медленно рассыпающихся в прах, величественная и унылая дюжина.
Впрочем, мы ведь собирались пожить там, только пока не снимем виллу, а отель для гостиницы первого класса оказался изумительно дешевым – с нас четверых брали всего сто пятьдесят франков, то есть меньше восьми долларов, в день, включая питание.
Агент по недвижимости, энергичный молодой человек – пуговицы его штанов уютно разместились на груди, – явился на следующее утро.
– Десятки вилл, – сообщил он с энтузиазмом. – Наймем лошадь с повозкой и поедем смотреть.
Утро было жарче сковородки, однако улицы уже запрудили южнофранцузские лица – смуглые лица, потому что на Ривьере чувствуется арабская кровь, занесенная сюда в стародавние бурные столетия. Когда-то в эти края приезжали за добычей мавры, а позднее они в диком порыве прокатились по всей Испании и захватили пограничные городки на берегу, чтобы из них пуститься на завоевание мира. Они были не первыми и не последними из тех, кто пытался завоевать Францию, – но от гордых мусульманских надежд остались лишь редкие мавританские башенки и трагический посверк в черных восточных глазах.
– Эта вилла сдается за тридцать долларов в месяц, – поведал агент, когда мы остановились у небольшого домика на окраине города.
– И что с ней не так? – подозрительно осведомилась жена.
– Все так. Великолепная вилла. Шесть комнат и колодец.
– Колодец?
– Отличный колодец.
– Вы хотите сказать, что ванной комнаты в ней нет?
– Как таковой – нет.
– Поехали дальше, – сказали мы.
К полудню стало ясно, что вилл для сдачи внаем в Йере нет. Все они оказались слишком душными, слишком тесными, слишком грязными или слишком меланхоличными – выразительное слово, которое выражает ту мысль, что по комнатам по-прежнему шляется помешанный маркиз в своем саване.
– Да, вилл нынче нет, – с улыбкой подытожил агент.
– Шутка с бородой, – ответил я.[63] – А смеяться на такой жаре – увольте.
Одежда наша уже напоминала вывешенные на просушку полотенца, однако, когда я предъявил удостоверение личности в виде шрама на правой руке, нас впустили обратно в отель. Я решил спросить одного из застрявших тут англичан, нет ли где поблизости другого тихого городка.
Если вы задаете вопрос американцу или французу, ответ предсказуем – с той лишь разницей, что ответ американца вы в состоянии понять. А вот получить ответ от англичанина ничуть не проще, чем выпросить спичку у госсекретаря. Первый, к которому я приблизился, выронил газету, глянул на меня в ужасе и со всех ног рванул прочь. Я немного растерялся, но тут, по счастью, увидел человека, которого однажды прямо на моих глазах везли на коляске к ужину.
– Доброе утро, – обратился я к нему. – Не могли бы вы сказать мне…
Он судорожно дернулся, но, к моему облегчению, выяснилось, что встать на ноги он не в состоянии.
– Не знаете, нет ли тут города, где можно было бы снять виллу на лето?
– Не знаю таких, – ответил он холодно. – А и знал бы, так вам все равно бы не сказал.
Последнюю фразу он, правда, не произнес, однако она так и читалась в его взгляде.
– Полагаю, вы здесь тоже недавно, – предположил я.
– Вот уже шестнадцать лет провожу тут каждую зиму.
Я сделал вид, что усмотрел в его словах приглашение к беседе, и придвинул стул ближе.
– Тогда вы должны знать хоть какой-то город, – заверил его я.
– Канны, Ницца, Монте-Карло.
– Но там слишком дорого. Мне нужно тихое место, где можно много работать.
– Канны, Ницца, Монте-Карло. Летом там тихо. Других не знаю. А знал бы – вам не сказал. Мое почтение.
Наверху няня считала на ребенке комариные укусы, появившиеся за ночь, а жена вписывала их в толстую тетрадь.
– Канны, Ницца, Монте-Карло, – сообщил я.
– Очень рада, что мы уедем из этого душного городка, – заметила няня.
– Мне кажется, лучше попробовать Канны.
– Мне тоже, – произнесла жена с воодушевлением. – Говорят, там очень весело… в смысле, какая же экономия жить там, где ты не можешь работать, а виллу, похоже, мы так и не найдем.
– Поплыли опять на большом кораблике, – ни с того ни с сего предложило дитя.
– Тихо! Мы приехали на Ривьеру, здесь мы и останемся.
Мы решили оставить няню с ребенком в Йере и съездить в Канны – более фешенебельный городок, расположенный дальше к северу на побережье. Если вам нужно куда-то «съездить», вам требуется автомобиль, поэтому на следующий день мы приобрели единственное новое авто в городе. Мотор у него был в шесть лошадиных сил – возраст лошадей не оговаривался, – а размерами оно было так мало, что мы возвышались над ним, будто гиганты; этакую малявку на ночь можно было запросто загонять под веранду. В нем не было ни замка зажигания, ни спидометра, ни рычага переключения передач, а цена, включая доставку, составила семьсот пятьдесят долларов. На нем мы и отправились в Канны, и – если не считать жарких выхлопов, с которыми нас обгоняли другие машины, – путешествие прошло в относительной прохладе.
Все европейские знаменитости провели в Каннах хотя бы один сезон; Железная Маска – и тот проторчал двенадцать лет на острове совсем рядом. Здешние роскошные виллы выстроены из такого мягкого камня, что блоки из него не высекают, а выпиливают. На следующее утро мы осмотрели четыре такие виллы. Все были компактными, чистенькими, аккуратными – прямо как в пригородах Лос-Анджелеса. Сдавали их за шестьдесят пять долларов в месяц.
– Мне нравится, – твердо сказала жена. – Давай одну из них и снимем. Судя по виду, хозяйство там вести очень просто.
– Мы приехали за границу не за тем, чтобы просто вести хозяйство, – возразил я. – Как я могу писать, если за окном… – Я посмотрел за окно и увидел великолепный вид на море. – Если мне слышно каждый шепот?
Тогда мы отправились смотреть четвертую виллу, изумительную четвертую виллу, память о которой по-прежнему не дает мне уснуть по ночам, – мне все кажется, что настанет светлый день, когда я там окажусь. Беломраморная, она вздымалась над высоким холмом, подобно дворцу, подобно древнему замку. Даже таксомотор, который нас туда доставил, не обошелся без романтической истории на переднем сиденье.
– Обратили внимание на шофера? – спросил агент, наклоняясь ко мне. – Раньше он был русским миллионером.
Мы уставились на это диво через стекло – тощий унылый мужчина, жестами истинного аристократа переключавший передачи.
– В городе их полно, – сообщил агент. – Они с радостью берутся за любую работу – шоферами, дворецкими, официантами, а жены их работают горничными в отелях.
– А почему бы им не открывать чайные, как это делают американцы?
– По большей части они вообще ничего не умеют. Нам их очень жалко, но… – Он нагнулся и постучал по стеклу. – Вы не могли бы прибавить ходу? У нас времени в обрез!
– Вот, смотрите, – сказал он, когда мы добрались до дворца на холме. – Рядом – вилла великого князя Михаила.
– В смысле, он там служит дворецким?
– Нет-нет. Он при деньгах. Просто уехал на лето к северу.
Мы вошли через узорчатые латунные ворота, которые отчетливо скрипнули, как и полагается воротам, когда они впускают короля, а когда отдернули шторы, оказались в высоком центральном зале, увешанном древними портретами рыцарей в латах и придворных в атласе и парче. Очень напоминало съемочную площадку. Мраморные лестничные пролеты величаво уходили вверх, образуя галерею, куда свет падал сквозь голубое витражное стекло и просачивался на мозаичный пол. Тут все было вполне современным – просторные чистые постели, образцовая кухня, три ванных и покойный, почтенный кабинет с видом на море.
– Раньше вилла принадлежала русскому генералу, – поведал агент. – Его во время войны убили в Силезии.
– И сколько?
– На летний сезон – сто десять долларов в месяц.
– Идет! – сказал я. – Давайте прямо сейчас напишем контракт об аренде. Мы с женой прямо сейчас съездим в Йер забрать…
– Минуточку, – вступила в разговор упомянутая жена, хмуря брови. – Сколько прислуги потребуется в этом доме?
– Ну, я бы сказал… – Агент бросил на нас проницательный взгляд, а потом заколебался. – Человек пять.
– А на мой взгляд, человек восемь. – Она обернулась ко мне. – Лучше уж поехали в Ньюпорт и снимем там дом Вандербильта.[64]
– Вы не забывайте, – напомнил агент, – что слева от вас живет великий князь Михаил.
– А он зайдет в гости? – поинтересовался я.
– Обязательно зашел бы, – пообещал агент, – вот только он, видите ли, в отсутствии.
Мы устроили дискуссию прямо там же, на мозаичном полу. Моя теория состояла в том, что в маленьком доме я работать не смогу, а сюда деньги вкладывать как раз стоит, потому что вилла послужит источником вдохновения. Теория жены состояла в том, что восьми слугам потребуется куча еды и вообще все это ни в какие ворота. Мы извинились перед агентом, уважительно пожали руку таксисту-миллионеру, выдали ему пять франков и в самом подавленном настроении вернулись в Йер.
– Вот счет за проживание, – сказала жена, когда мы уныло побрели ужинать.
– Слава богу, всего пятьдесят пять долларов.
Я вскрыл его. К моему изумлению выяснилось, что к упомянутой сумме добавилась бездна налогов – федеральный налог, городской налог, десятипроцентный налог на еще одни чаевые для прислуги, а также особый налог для американцев, – в результате пятьдесят пять долларов выросли до ста двадцати семи.