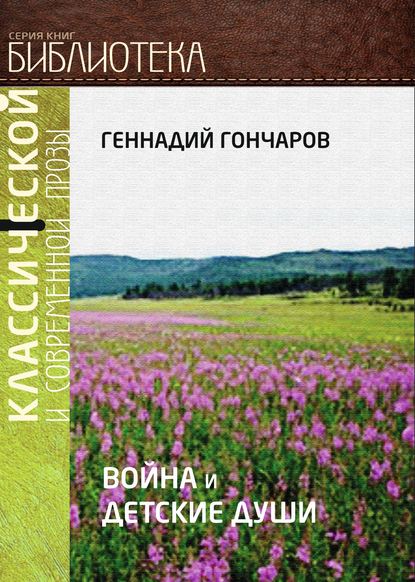Полная версия
Алая роза в хрустальном бокале
– Вы ещё на свободе? – мрачно пошутил я.
– Кто это? – насторожился Шестинский.
– Берестенников.
– Ты откуда звонишь?
– Я в отпуске. Что у вас произошло?
– Похоже, переворот.
– Есть аресты?
– Пока нет, но к Москве движутся танки.
– Что с президентом?
– Союзный, судя по всему, арестован в Форосе. Российский проскочил в Белый дом. Я сейчас тоже туда еду.
– Что ещё?
– Пока всё.
Во время разговора мама стояла рядом с тарелкой и посудным полотенцем.
– Что сказали? – спросила она.
– К Москве идут танки.
Мы пили кофе и ждали вестей ещё более тревожных. Центральная программа гоняла заявление гэкачепистов, а в перерывах крутила «Лебединое озеро». Украинские телевидение и радио словно не ведали, что происходит. Единственными источниками информации были западные радиостанции. Транзистор трещал и хрипел. «Свобода» сообщила, что президент СССР Горбачев под арестом на даче в Форосе.
– А его не убьют? – спросила мама.
– Кто же это знает…
– Ты представляешь, как сейчас радуется Фарафонов?
– Да уж!
Я набрал номер приемной главного редактора.
– Максим? Ты откуда?! – обрадованно воскликнула секретарша.
– С Украины, Валентина Матвеевна. Соедините меня с главным.
– Он в Верховном Совете.
– Как вы там?
– Плохо.
– Газета еще не закрыта?
– Пока нет.
– Что за окном?
– Всё как обычно.
– Незванов на месте?
– Да, я его видела.
– Ситуация хреновая, – сообщил Андрей. – Введены Кантемировская и Таманская дивизии. По неофициальным и непроверенным данным, его уже нет в живых.
– Да ты что?!
– Бога ради, нигде эту информацию пока не используй.
– Ладно. Запиши мой номер телефона и передай стенографисткам, пусть вызовут через час. Я продиктую заметку.
– Окэй! Будет что-то новое – позвоню.
Я сел к столу. Писал быстро, почти без правки, на одном воспалённом дыхании.
К двенадцати позвонили из редакции, и я продиктовал три страницы текста.
Мама сидела в кресле. Отец, пришедший с работы, подпирал дверной косяк.
– Привет, пап! – сказал я.
– Привет!
– Ну и как?
– Правильно написано.
– Я не об этом. Как у вас на работе?
– Все тихо ругают эту банду. Один начальник радуется.
– Мне надо ехать в Москву, – сказал я.
Мама словно ждала этого, и потому совершенно спокойно спросила:
– Ты поедешь завтра?
– Нет, сегодня.
Мама вышла на кухню.
– Может, переждёшь? – спросил отец.
– Надо ехать.
Отец тяжело вздохнул и сел.
После обеда позвонил Андрей, сообщил, что закрыты все демократические газеты. В том числе и наша.
– Что там? – спросил отец, когда я вошёл на кухню.
Мама перестала чистить морковку, выжидающе посмотрела на меня.
– Газету закрыли.
Сковородка шипела, словно на кого-то злилась. В тарелку с тёртой морковкой упали две мамины слезы.
– Ну ладно, – сказал я. – Пока есть время, сбегаю в депо. Может, Володька починит клапан.
Клапан к газовой колонке сломался вчера, и мы остались без горячей воды. Я совсем забыл о нём, вспомнил только теперь, увидев, как мама греет воду в кастрюле.
До депо было рукой подать. Нужно было только перейти через сортировочный парк. С горки маневровый тепловоз толкал вагоны. Внизу их ловили рабочие в оранжевых жилетах, подставляя под колеса железные «башмаки». Визг и скрежет оглашали станцию. Гнусавый голос оператора сортировочной горки через динамик читал вечную молитву: «На второй путь – два вагона, на шестой – четыре, на седьмой – шесть». У этой молитвы не было конца. Её читали днём и ночью из года в год. И вагоны катились, катились…
Мне всегда казалось, что время на станции если и не остановилось, то уж во всяком случае ползёт со скоростью улитки. Это ощущение возникало от постоянства совершаемых действий. Локомотивы увозили сформированные составы, но с горки катились новые вагоны…
Солнце разогрело шпалы – до одури пахло креозотом. Ах, как пахло креозотом! Как тогда, тем летом… Вон по тому крайнему пути дрезина медленно толкала платформу с новенькими чёрными шпалами. Подложив брезентовые рукавицы, я сидел на шпалах, ругая с рабочими креозот, разъедавший глаза и руки. Впереди, между рельсами и каменным забором пакгауза, мелькнул красный сарафан. Саша Турчак несла отцу, работавшему стрелочником, обед. «Как здорово, что она в эту минуту здесь, – подумал я и вскочил на ноги. «Саша!» – крикнул я. Она обернулась, узнала меня, помахала рукой. И я помахал рукавицами. Я был счастлив. Она меня увидела загорелым, в рабочей одежде, на бегущей платформе! Я стоял, широко расставив ноги, тёплый ветер трепал волосы, я был горд собою, своей грязной одеждой, своими мозолями, тем, что на каникулах не бездельничаю, а работаю наравне со взрослыми, что я такой бывалый…
Сарафан исчез, а я стоял и ощущал, что платформа бежит не по станции, а по планете, и верил, что жизнь у меня непременно сложится и всё в ней будет прекрасно.
В цехе пахло раскалённым металлом и маслом. Володька, ссутулившись, стоял у станка в чёрной спецовке. Увидев меня, выключил станок, снял защитные очки, вытряхнул из усов синюю стружку.
– Здоро́во! – протянул грязную руку. – В отпуске?
– Да, – сказал я.
– Как дела?
– До сегодняшнего дня неплохо.
– Ну да…
– Как ты?
– По-старому.
– Как батя?
– Скрипит. Видеть стал хуже, но держится.
– Квартиру ещё не получил?
– А… У нас же квартиры перед пенсией получают.
На Володькином подбородке, несмотря на загар, отчётливо был виден рваный шрам. Это был памятный след. Нам надо было бы разделить его на двоих. Мы тогда работали монтёрами пути. Однажды, во время обеденного перерыва, забравшись на черешню, стали набивать ягодами карманы. Это было неслыханное нахальство: черешня росла под окнами руководства дистанции. Оператор сортировочной горки по громкоговорящей связи гнусавым голом запричитал:
– Мастер Радецкий! Мастер Радецкий! Пока вы чёрт знает где ходите, ваши биндюжники доламывают черешню.
Через минуту снизу ударила мощная струя холодной воды. Мастер Радецкий держал в руках брандспойт и скалил зубы. Мужики, сидевшие на траве, хохотали. Я спустился удачно, а Володька поскользнулся и свалился с дерева. При падении рассёк подбородок.
– Какие новости? – спросил Володька.
– Только что звонил в Москву. Там танки.
– Мать их за ногу!
– Газету закрыли.
– Куда же ты теперь?
– Сегодня возвращаюсь в Москву.
– Что родители?
– Мама плачет.
Я достал из кармана клапан.
– Сможешь починить?
Володька повертел железку.
– От газовой колонки?
– Да.
– Пусть отец завтра к обеду зайдёт.
– Спасибо.
– Не за что. Аресты были?
– Пока нет.
– Без них не обойдётся. Может, не поедешь?
– Надо ехать.
Мы пожали друг другу руки. Уже у выхода я услышал свист и обернулся. Володька бежал ко мне.
– Ты вот что… – Володька перевёл дух. – Ты не лезь куда не надо.
Это, наверное, давали себя знать черешни, которые мы рвали вместе.
Дома у порога стояла готовая в дорогу сумка. В лучах заходящего солнца бокал сверкал неистово, и от этого казалось, становился ещё более тонким и хрупким.
До вокзала десять минут быстрого ходу, но мы шли медленно. Встречавшиеся знакомые разглядывали меня, как разглядывают мотылька, которого собираются приколоть булавкой к бумаге. Поезда, словно изумрудные сороконожки, вползали на станцию, приходили в себя и трогались дальше. Пассажиры перетаскивали вещи с перрона на перрон, неопрятные носильщики гремели тележками, неугомонное вороньё, подпрыгивая и ругаясь, клевало зерно, просыпавшееся между рельсами. Среди вокзальной сутолоки мы стояли, будто на острове, а окружающий мир нервно плескался о наш ненадёжный берег.
Поезд Бухарест – Москва пришёл без опоздания. Два стройных проводника в белых сорочках и чёрных галстуках спрыгнули на перрон. Один из них, изучив билет, сказал:
– Мест нет. До Киева придётся стоять в коридоре.
Я внёс сумку в тамбур. Затем спустился на перрон. Мы попрощались.
– Храни тебя Господь! – сказала мама, обняв меня.
– Держи нас в курсе, – сказал отец.
Я снова поднялся в тамбур. Родители стояли одинокие, беззащитные… Поезд тронулся. Мы вцепились взглядами друг в друга и так смотрели, пока расстояние не размыло глаза, затем лица…
– Всё, – сказал проводник. – Пора.
Он оказался деликатным парнем – держал дверь открытой намного дольше, чем положено по инструкции. Мимо проплыл мост, через который мы шли всего полчаса назад. С горки катились вагоны, и всё тот же гнусавый голос причитал: «На второй – один, на шестой – пять».
Обогнув вагонное депо, поезд летел над утопавшим в садах одноэтажным пригородом. Там пахло яблоками, сливами и маттиолой. Вон по той дорожке, едва заметной среди некошеной травы, мы возвращались с Ольгой на велосипедах. Вскоре проехали место, где пекли райские яблоки.
В тамбуре грохотала сцепка. Из последнего купе вышла молодая женщина в длинном халате и притворила дверь.
– Простите, – сказала она, – вы только что сели?
– Да, – ответил я.
– Это правда, что президент убит?
Я вспомнил суровое предостережение Андрея.
– Мне об этом ничего не известно, – сказал я.
– А какие новости? Мы едем из Бухареста и ничего не знаем.
– В Москве танки.
– Как вы думаете, – спросила женщина, – чем всё это закончится?
Я пожал плечами.
Женщина ещё немного постояла, затем ушла к себе.
Облака напоминали пепел дотлевающего костерка. Иногда они вспыхивали, словно кто-то пошевелил их, но тут же меркли. Далеко, среди полей, на покатом склоне, впадало в дрёму село. Две силосные башни, точно воины в шлемах, встали на ночной пост. Мне казалось, я слышу, как протяжно и лениво мычат коровы. Там сейчас пахнет навозом и скошенным клевером, а за селом, возможно, пацаны, сбившиеся в стайку, украдкой выкуривают одну на всех первую папиросу. Рвануть бы стоп-кран и уйти в то село. Подсесть к мальчишкам, научить их пускать кольцами дым. И ни о чём не думать.
Я понимал: в Москве меня не ждёт ничего хорошего. И потому цеплялся за покинутый мир, который с каждым километром становился всё пленительнее и слаще. Запах пирога, дрожащие тени от герани на кухне, утренний воробьиный щебет… И алая роза в хрустальном бокале – нежная, хрупкая. Как память. Как надежда. Как жизнь.
Закрой глаза. В виденье сонномВосстанет твой погибший дом,Четыре белые колонныНад розами и над прудом.И ласточек крыла косыеВ небесный ударяют щит.А за балконом вся Россия,Как ямб торжественный, звучит.Давно был этот дом построен,Давно уже разрушен он.Но, как всегда, высок и строен,Отец выходит на балкон.И, зоркие глаза прищурив,Без страха смотрит с высоты,Как проступают из лазуриСудьбы ужасные черты.И чтоб ему прибавить силы,И чтоб его поцеловать,Из залы или из могилыВыходит, улыбаясь, мать.И вот, стоят навеки вместеОни среди своих полей.И, как жених своей невесте,Отец целует руку ей.А рядом мальчик остроглазыйПрислушивается. К чему –Не знает сам. И роза в вазеБессмертной кажется ему.(Стихи Владимира Смоленского)– Чай будете?
Проводник смотрел участливо и терпеливо.
– Спасибо, это было бы кстати, – сказал я.
Через минуту проводник принёс стакан чая в алюминиевом подстаканнике.
– Осторожно, он горячий, – предупредил парень.
Лесопосадки налились темнотой. В ветках деревьев, как в волосах нечёсаного домового, время от времени вскрикивая, укладывалось спать вороньё.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.