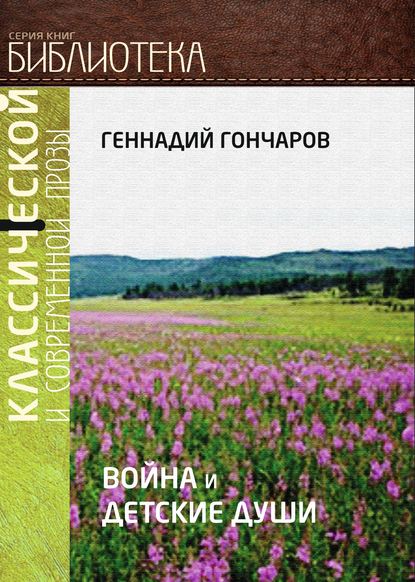Полная версия
Алая роза в хрустальном бокале
– Н-н-надо бы встретиться, – сказал он, сильно заикаясь.
– Замечательная мысль! – поддержал я.
На следующий день в четвёртом часу мы с Иваном вошли в вокзальный ресторан, сели за дальний от входа столик. Вокзал построили сто лет назад, ресторан был его лучшей частью. Под высоким потолком висела огромная люстра, сделанная из дерева и окрашенная под золото. Замысловатые узоры придавали люстре хрупкость, поэтому, несмотря на свои размеры, она не казалась тяжёлой. По потолку вокруг люстры бежала греческая меандра. Между высокими арочными окнами висело шесть больших вертикальных картин. Напротив нас висела картина с типичным украинским пейзажем: пруд, пирамидальный тополь, мостик. Рядом соседствовала картина с горным пейзажем и двумя оленями. Дальше – кипарисы и утопающие в зелени белые домики, похожие на солнечные блики. Следом – копия знаменитого шишкинского «Утра в лесу». Мы сидели у той, где старик в сапогах, кепке и с вещмешком за спиной подзывал уток. В одной руке он держал ружьё, другую прижимал к губам. Рядом, насторожившись, стоял вислоухий пёс. Светало. Поднимался туман.
Людей в зале было мало. У кипарисов, приставив к стене чемодан и сумку, семья с двумя детьми торопливо доедала обед. Видимо, вот-вот должен был подойти их поезд. У пруда с тополем сидели четверо старших офицеров с голубыми петлицами. Они сдержанно пили водку и аппетитно ели. За соседним с ними столиком обедали, похоже, друзья официанток. Одна официантка, красивая, но с полноватыми для её маленького роста ногами, время от времени подходила к столику, садилась на свободный стул, курила и громко смеялась.
Вторая официантка подошла к столу только раз. Она была выше и красивее своей подруги. Каждый раз, когда она проходила по залу, офицеры поворачивали головы в её сторону.
На белой скатерти, которой был застелен наш стол, отпечатались пятна от чего-то пролитого. Пятна напоминали карту с чётко обозначенными границами неизвестных государств.
– Для начала б-б-берём бутылку водки, – сказал Иван как о вопросе уже решённом.
– Давай лучше возьмём шампанское, – предложил я.
– Сегодня что, Новый год? Или с нами дама?
– Ладно, давай вначале посмотрим меню, – уступил я.
В меню оказались водка и вермут «Шемаха».
– Ты берёшь водку, – сказал я, – а я – бокал вермута.
– В-в-в таком случае бутылки много, – вдруг застеснявшись, сказал Иван.
– Заказывай в графине, – посоветовал я.
– Мне в графин е-ещё нальют, – насмешливо произнёс Иван, – а кто т-т-тебе подаст в бокале?
Я загадал: если подойдёт официантка с толстыми ногами, придётся брать бутылку водки. Если та, что повыше, со стройными ногами, есть шанс. Подошла та, что повыше, профессионально окинула нас взглядом и застыла с блокнотом в руках.
– Будьте любезны, – сказал я, – нам триста водки и двести вермута.
– Бери бутылку! – прошипел Иван.
Я двинул его ногой.
Официантка ушла, не проронив ни слова.
– Романтик хренов! – буркнул Иван.
Официантка принесла бутылку водки и два эскалопа.
Иван торжествующе посмотрел на меня.
– Жизни не знаешь, пацан! – сказал он и потянулся за бутылкой.
С Иваном мы не виделись четыре года. За это время он запаршивел ещё больше. Поседевшие волосы слиплись и противно блестели. У Ивана были полные щёки болезненного перламутрового цвета, под карими глазами лежали огромные тени. Отёки под глазами выдавали пагубное пристрастие – его почки и печень работали с перегрузкой.
Мы выпили по рюмке, глаза Ивана заблестели.
– Ты помнишь, – спросил я, – как мы с тобой подрались?
– На яблоках, – сказал Иван. – Мы т-т-тогда помогали колхозу.
– В каком классе это было?
– По-моему, в седьмом. Я т-т-тогда тебе губу расквасил. Извини! А помнишь, как в д-десятом мы готовились к-к-к «Огоньку»? Как нас классный руководитель накрыл, когда мы в столовой ч-ч-чекушку наливки распивали?
– По-моему, он так ничего и не заметил.
– Или сделал вид, что н-н-не заметил.
– Нет, не заметил. А куда, кстати, бутылка девалась? Она стояла на столе, потом мгновенно исчезла, я даже не понял, как это произошло.
– Володька столкнул ее в бак с к-к-киселём.
Иван снова налил рюмки.
– Д-д-авай за елки, которые мы с тобой срубили.
– И чуть не попались.
– Да, чуть не попались.
Мы выпили.
– Мы были с тобою не правы, – сказал я.
– Это верно, – согласился Иван. – К-к-когда проезжаю мимо той п-п-посадки и вижу «наши» ёлки без верхушек, жалко их.
Мы налили ещё. Водка была ядовитая, как хлорпикрин не боевой концентрации.
– Ты всё пописываешь? – спросил Иван.
– Пописывают в конце Шепетовской платформы, – сказал я. – А я пишу.
– Ругаешь к-к-коммунистов? Ругаешь, ругаешь. Я читал. Правильно делаешь. Но почему не делал этого раньше?
В умных глазах Ивана вместе с алкоголем плескалась насмешка.
– И где бы я это печатал? – не без раздражения возразил я.
– В самиздате.
– Ты это серьёзно?
– А почему бы и нет?
– Вот ты бы и попробовал!
– Шутишь? Я же двоечник.
Иван наполнил рюмки. Ножом он не пользовался. Наколов эскалоп на вилку, отгрызал кусок с остервенением первобытного человека.
Я рассматривал картины и решал задачу: в которой из них хотел бы сейчас оказаться? Бывая в ресторане, я всегда задавал себе этот вопрос. Ответ зависел от настроения. Поэтому я любил задавать этот вопрос тем, с кем приходил в ресторан. Благодаря ему можно было практически безошибочно определить внутреннее состояние человека. Это был прекрасный тест.
– Где бы ты сейчас хотел оказаться, Вань? – спросил я.
– В смысле? – не понял Иван.
– В каком месте, изображённом на картине, ты хотел бы сейчас оказаться?
Иван осмотрел то, что было перед ним, затем, обернувшись всем корпусом, оглядел то, что было сзади.
– Там, у кипарисов, – сказал он.
– Почему?
– Тянет в Г-гагры.
– Ты отдыхал в Гаграх?
– Я возил туда г-г-говядину.
Иван взял салфетку, вытер губы, скомкал её и бросил на стол.
– Там есть ресторан, построенный каким-то принцем, – сказал он. – Я л-л-любил в нём сидеть.
– Тот самый, напротив которого расположен парк с пеликанами? – уточнил я.
– Верно. Иногда я кормил их. Пляжи были почти пусты. Тогда г-г-грузины с абхазами письками мерялись. Были введены в-в-войска, объявлен к-к-комендантский час. Иногда на ул-л-лицах встречались п-патрули. Там я познакомился с одним с-с-старшим лейтенантом из Крыжополя. В ресторане мы с ним распили д-д-две бутылки «Кинзмараули», а н-на следующий день его убили. Я пошёл в рес-с-сторан и надрался, как свинья.
Иван плеснул себе водки и тут же выпил, будто вдохнул свежего воздуха.
– Слушай, ты помнишь, как в п-п-первый г-год после школы, после в-в-вечеринки у кого-то из наших, мы вдвоем бродили по городу?
Иван подался вперёд. Мне казалось, он боялся, что я скажу: «Нет, не помню». Но я помнил.
– Да, – сказал я, – мы хотели начать революцию.
Иван обрадовался моему ответу и откинулся на спинку стула.
– Да-да, это была осень, – сказал он.
– С мясокомбината несло какой-то вонью, – вспомнил я.
– Я там работал, – сказал Иван.
Безула налил себе остатки водки, подозвал официантку и заказал ещё бутылку. Я понимал, что она – лишняя, но возражать не хотелось.
– Ты говорил, что идеи революции преданы и всё нужно начинать сначала, – сказал Иван.
– Все оказалось иначе: сами идеи были ущербны.
– Всё равно надо было что-то делать.
– Нас передушили бы, как мышей!
Иван ухмыльнулся. Он ухмылялся часто во время нашего разговора. Раньше у него такой ухмылки не было.
– Так все рассуждали, – сказал Иван. – П-п-потому и жили в-в-в дерьме. Я часто пускал в ход кулаки. На мясокомбинате воровали мясо, я устроил скандал. Меня выгнали. Но в-в-начале посадили в кутузку. Я устроился на рефрижераторные поезда. Там я т-т-тоже набил морду бригадиру за то, что в-в-воровал мясо. Как там воруют! Максим, весь мир в-в-ворует. Ты знаешь об этом? И я теперь в-в-ворую. Мои к-к-кулаки устали. С их помощью мир не переделаешь. Надо было по-другому.
– Мы бы сгнили в тюрьме.
– А что я делал здесь – не гнил?
Хмель туманил голову. Вещи потеряли чёткость, словно были написаны Камилем Коро. Дым от наших сигарет вился красивыми струйками и растворялся под люстрой.
– С-с-сегодня жизнь меняется, – говорил Иван. – Но без нас с тобою. Мы тут ни при чём.
Неожиданно я отметил, что вторая бутылка на две трети пуста. По обе стороны ресторана прибывали и уходили поезда. Когда вагоны трогались, казалось, что это не поезда идут, а ресторан с огромной люстрой, с картинами, с кухней, из которой несло пригоревшим луком, качнулся и поплыл…
Лицо Ивана стало ещё жирнее, словно его натёрли свежим салом. В недрах Иванова кулака покоилась рюмка; когда он пил, казалось, пил прямо из кулака. Я понимал, почему он хотел встретиться со мною – он хотел увидеть свидетеля. Свидетеля своих ранних мыслей и порывов. Он хотел убедиться в том, что эти порывы действительно были, что он действительно когда-то стоял на развилке дорог и мог выбирать. Он хотел заново пережить ту ночь, те мысли и чувства, до которых потом так никогда и не дотянулся.
– Мы г-г-решники с тобою, Максим, – сказал Иван сильно заплетающимся языком. – Мы большие г-г-грешники. Мы знали: что-то нужно д-д-делать, но не делали.
Мутные глаза Ивана уставились в стол, словно он там читал своё пророчество.
– Совесть, Максим, это такая з-з-зараза…
Мы расстались около восьми на Шепетовской платформе. Той же ночью Иван повесился в сарае на бельевой верёвке. Поскольку жил Иван за городской чертой, хоронили его на сельском кладбище. В дешёвом гробу, обитом красной тканью, лежал совершенно незнакомый мне человек. Его волосы были аккуратно зачёсаны на пробор, что несвойственно для Ивана. Его густые волосы всегда напоминали рощу, по которой прошёлся ветер. Лицо Ивана оплыло, стало широким. В ногах лежали георгины и астры, которые в изобилии цвели в соседних дворах.
Мама Ивана Елизавета Матвеевна не плакала. Она сидела у гроба, смотрела в одну точку и шевелила сухими губами. То ли читала молитву, то ли разговаривала с непутёвым сыном.
Проститься с Иваном пришли все одноклассники, кто был в городе, – человек восемь. К моему удивлению, пришёл и наш учитель математики Фёдор Борисович Амигуд. Мы шли рядом за машиной с открытыми бортами, в кузове которого на потёртом ковре лежал гроб с Иваном.
– Ты не знаешь, почему он это сделал? – спросил Фёдор Борисович.
– Жить, как жил, не хотел; а по-другому, видимо, не мог.
– Ты что-то знаешь?
– Перед той ночью мы с ним пили водку, вспоминали, как хотели начать революцию. Но не начали. Ивана это мучило.
– Вот как!
Я придерживал учителя под локоть, через поношенный пиджак чувствовал его высохшую лёгкую руку.
– Мальчики, – едва слышно произнёс учитель. – Мои дорогие мальчики.
Учитель повторил эту фразу несколько раз.
– Ты знаешь, – Фёдор Борисович, приостановился, заглянул мне в глаза, – Иван мог бы стать блестящим математиком. Я помню, как он, не зная ни одной формулы, ни единой теоремы, решил непростую задачу по тригонометрии. Точнее, рассказал, как её нужно решить.
– Вы тогда поставили ему пятёрку.
– Ты не поверишь, но я предчувствовал, что с Иваном случится беда.
Я с удивлением посмотрел на учителя.
– Это не так сложно. Дети перед тобой как на ладони. По тому, как думают, как говорят, как ведут себя, можно примерно угадать судьбу каждого. Иван обладал умом математика, кулаками боксёра и сердцем Дон Кихота. Это губительное сочетание.
Могила была уже вырыта. Гроб с Иваном поставили рядом на скамейку. Елизавета Матвеевна впервые взвыла, обхватив руками гроб. После такого крика у сердца больше не остаётся сил жить. Духовой оркестр заиграл похоронный марш Шопена. О крышку гроба глухо ударились комья земли.
* * *Несколько дней после похорон я ничего не мог делать – думал об Иване. Как-то во второй половине дня поплёлся на вокзал, в ресторане занял столик, за которым мы недавно сидели. Пить не хотелось. Та же официантка с красивыми ногами, которая обслуживала нас с Иваном, принесла чашечку кофе.
– Вы сегодня только кофе? – улыбнулась она.
– Да, сегодня только кофе, – словно эхо отозвался я.
– А где ваш друг?
У нее были рыжие глаза и рыжие волосы.
– Он далеко, – сказал я.
– Уехал?
– Нет, просто ушёл.
Мне показалось, что девушка задержалась у столика неслучайно. Возможно, она не прочь была познакомиться поближе.
– В прошлый раз вы хорошо посидели, – сказала она.
– У нас была причина.
– Серьёзная причина?
– Мы топили совесть.
Официантка удивлённо посмотрела на меня, видимо, оценила моё состояние и ушла, явно осознавая, насколько она хороша.
Скатерть на столике была свежая. Я посмотрел на картину с кипарисами и почувствовал, как невесть откуда взявшийся ком бесцеремонно и больно вкатился в горло.
…После того ночного разговора с Иваном я отправился на работу. Работал я в другом районе, куда не доходила железная дорога. Автобус трясло на ухабах, пыль от впереди идущих машин попадала в салон, она покрывала одежду, противно скрипела на зубах. Я жаждал поскорее добраться до места и смыть с себя пыль, но всё складывалось неудачно – поругался с новым вахтёром, который не знал меня и не хотел пускать на территорию сахарного завода, где я жил в общежитии. Когда же после долгих препирательств я наконец попал в общежитие и разделся, в бачке не оказалось ни капли воды.
Моя комната напоминала камеру-одиночку: высокий потолок, метровой толщины стены, крохотное окно, выходившее в закрытый дворик с астрами.
Было восемь вечера, я ушёл в редакцию. Она располагалась в старом здании, вросшем окнами в землю. В двух комнатах, не считая кабинета редактора, постоянно царили сумерки, в любое время суток здесь горели лампочки. В комнате, где работали машинистка и корректор, потолок провис, и, чтобы не рухнул, его подпёрли бревном. На нём фотокор ножом вырезал два сердца, пронзённые стрелами, и написал: «Дом, где разбиваются сердца. Вдребезги».
В комнате, где сидел я и ещё трое сотрудников, потолок тоже угрожающе провис, но подпирать его бревном почему-то не торопились. Он провис прямо над моим столом, и, прежде чем занять рабочее место, я шваброй пробовал потолок на прочность.
В коридоре уже были аккуратно сложены заготовленные к понедельнику дрова. Уборщица Марья Афанасьевна хотя и пила изрядно, но своё дело знала. Я положил несколько поленьев в печку, развёл огонь. Заварил чай. В окно ткнулся бездомный и, видимо, голодный пёс. Я взял несколько кусков сахара, положил у крыльца и вскоре услышал жадный хруст.
Подкладывая дрова в печку, я думал о нашем с Иваном разговоре, о том, как что-то изменить в стране, в которой всё, как мне казалось, было не так. Нищие колхозы, убогое жильё, пустые магазины, разбитые дороги, обманутые фронтовики, малограмотные и самодовольные начальники… Хотелось что-то переделать, улучшить… Но как? Я понимал: достаточно заявить о своём несогласии хоть с чем-нибудь, и, в лучшем случае, я навсегда останусь в этой дыре. В худшем – пропаду в лагерях. Неокрепшее чувство гражданственности, выпестованное отечественной литературой, прогорало во мне, как прогорали дрова – превращаясь в труху и пепел.
Я приспособился. Иван не смог.
Однако жизнь продолжалась. В полдень мы пили кофе, вспоминали прошлое, обсуждали последние новости и старательно избегали разговоров об Иване. По вечерам смотрели телевизор, подолгу пили чай и снова говорили, говорили… Было во всём этом едва уловимое ощущение ускользающего блаженства.
Я познакомился, наконец, с фарафоновским петухом. Крупный, огненно-рыжий, с сильной шеей, с гордой осанкой и острыми шпорами, он ходил возле четырёх своих дам, метая по сторонам испепеляющие взгляды. Дважды я приближался к нему, и петух, косивший за мной оранжевым глазом, мгновенно разворачивался, делал в мою сторону несколько решительных шагов. Я отходил – петух возвращался к подругам. В третий раз, приблизившись шагов на десять, я решил не уходить, а посмотреть, что будет делать эта гроза двора. Петух распустил крылья и бросился на меня. Он был похож на истребитель, берущий разгон на взлётной полосе.
Я дал задний ход.
Петух вызывал у меня чувство безграничного уважения – он был отчаянно смел.
На противоположной стороне двора показался Василий Мартынович Балицкий, наш сосед из шестой квартиры. Он шёл медленно, переваливаясь с ноги на ногу. Жена Василия Мартыновича Фира Моисеевна часто говаривала:
– В молодости мой Вася был такой стройный мальчик. Я в него влюбилась за одну только фигуру. А сейчас – вы посмотрите, что из него получилось. Это же восьмиосная цистерна!
Увидев меня, Василий Мартынович вскинул палку, на которую опирался, и крикнул:
– Привет, Максим! Не уходи, потреплемся.
Но преодолеть каких-нибудь полсотни шагов было не так просто. Между нами гоголем ходил фарафоновский петух. Увидев его, Василий Мартынович остановился.
– Ты опять здесь! – сказал Балицкий упавшим голосом.
Петух встал напротив, выпятив грудь. Балицкий взял влево, вокруг клумбы. Подойдя ко мне, Василий Мартынович пыхтел, как паровоз.
– И так всегда, – сказал он. – К дому невозможно подойти. Где только Фарафонов раздобыл этого зверя? Его же нужно держать в наморднике и на цепи.
Рука у Василия Мартыновича была тяжёлая и корявая, как корень сосны. Его мучил ревматизм.
– Что делаешь?
Балицкий присел на скамейку.
– Знакомлюсь с соседом, – кивнул я на петуха.
– Гад! – сказал Василий Мартынович, презрительно посмотрев на птицу.
– Я бы этого красавца за деньги показывал.
– Максим, ты его просто ещё не знаешь, – устало сказал Василий Мартынович. – Я тоже вначале этого змея всерьёз не воспринимал. Пока однажды он на меня не кинулся. Хочешь верь, хочешь нет, едва глаза не выклевал. Машиной бы его задавило, что ли!
Петух застыл, повернув голову в нашу сторону.
– О, навострил уши, – сказал Василий Мартынович. – Ты знаешь, Максим, я с близкого расстояния остерегаюсь сказать что-то оскорбительное в его адрес. Он ведь, стервец, всё понимает. Однажды я стоял возле того каштана, а он охаживал своих девочек возле сарая. Я возьми да и скажи: «По тебе, гад, топор плачет!» Ты не поверишь, как только я это сказал, он нахохлился и пошёл на меня. Я понял, что дело добром не кончится, и, как мог, на своих ходулях дал деру.
Василий Мартынович положил палку на колени, стал растирать руки.
– Крутит?
– А, – махнул рукой Балицкий.
– Ничего не помогает?
– Мне теперь только гроб поможет.
– Вы это говорили, когда я ещё в школу ходил.
– Тактика такая. От сглаза.
– Вы с базара? – спросил я.
– Да. Мясо купил. – Балицкий поднял сетку с бумажным свёртком, на котором проступила кровь. – Купил полкило свеженькой свининки. Сейчас пойду сделаю котлетки. Чесночка побольше добавлю, перчика – пальчики оближешь!
Мы помолчали, наблюдая за петухом. Неожиданно, без всякого повода, Василий Мартынович сказал:
– Лопнут ваши реформы.
Я промолчал.
– Слышь, что говорю?
– Слышу.
– Как пить дать лопнут.
– Почему?
– Потому что к едрени фени летит всё, что построили. Сколько народу загубили – и всё напрасно?
– Вам, наверное, подсунули мясо с костью, – сказал я.
– Вот увидишь. – Балицкий снова помассировал руки. – Я слишком хорошо знаю нашу компанию.
Он с трудом поднялся, опираясь на палку.
– Ох-хо-хо, – простонал Василий Мартынович. – Пойду лепить котлеты. А то моя снова прикинулась больной.
Василий Мартынович заковылял к подъезду.
– Заходи, в шахматишки сыграем. Я тебя уделаю в два хода.
В коротких перерывах между завтраком, кофе, обедом, ужином, чаем и обильными разговорами я читал рассказы Джека Лондона. Иногда, когда соседский кот Васька набирался храбрости и с балкона осторожно ступал в комнату, я брал его на колени, он сворачивался калачиком и впадал в дрёму.
Время от времени мне давали мелкие поручения: сходить за хлебом, вынести мусор, принести из погреба картошку. На восьмое утро моего отпуска, когда я, насладившись поздними пробуждениями, неожиданно для домашних встал в семь утра, это мгновенно оценили и тут же поручили сходить на рынок купить творог и помидоры. В один задний карман джинсов я сунул полиэтиленовый пакет, в другой – деньги, и налегке выскочил на улицу. Вымытая площадь блестела, розы благоухали, гипсовый Ленин, выкрашенный под бронзу, неестественно большой рукой указывал на банк.
На стометровой улице, упирающейся в ворота рынка, поток людей был почти сплошным. С обеих сторон у тротуаров выстроились мотоциклы с колясками, Запорожцы, Москвичи, Жигули, две Волги с ржавыми коробами, инвалидная коляска. Это была техника из села – в пыли, с комьями грязи под крыльями.
Торговля начиналась прямо у ворот. Здесь продавали ячменные веники, негашёную известь и живых поросят. Привязанный за ногу к металлической ограде, дрыгался, пытаясь избавиться от верёвки, месячный поросёнок. Он то и дело падал и визжал, будто его резали. Мужчина, сидевший на запасном колесе коляски мотоцикла и жевавший яблоко, не выдержал:
– Та видвяжить його, нехай соби пасётся, – посоветовал он хозяйке поросёнка.
– Чи вы здурилы?! – воскликнула женщина в цветастом платке. – Де ж йому пастыся, колы скризь гола земля?
– Та може, шо найде, – советовал мужчина. – А то так голосить, шо аж исты хочется. Чи вам скотину не жаль?
Основная торговля шла под шиферными навесами. Яблоки, груши, сливы, дрожжи, укроп, петрушка, лук, синька, семена, творог, цветы – всё это продавали с лотков. А вокруг них расположились продавцы картошки, мохеровых шарфов, старых часов, капусты, репы, тыквы, починенной сантехники.
Полукругом, по краю рыночной площади, шли торговые ряды, которые называли «вывозом». Здесь продавали кирзовые сапоги, калоши, телогрейки, давно вышедшие из моды песочного цвета плащи и тяжёлые туфли Тульчинской фабрики. На «вывозе» витал запах сырых сельмагов.
В центре рынка, на большой площади, торговали с грузовиков, телег и из багажников легковых автомобилей. Продавали кроликов, кур, свиней, картошку, капусту, болгарский перец. Пыль витала над рынком вместе с гулом человеческих голосов, визгом поросят и кудахтаньем кур.
Я люблю рынок. Это единственное место в державе, где общество таково, каково оно есть на самом деле. На рынке хорошо выбирать будущих жён. По непромытой банке, которую прелестная с виду девушка подаёт под творог или сметану, безошибочно можно определить, что газовая плита в её квартире покрыта чёрно-коричневой коркой, а за плитой – осадки жира и куча использованных спичек с обгоревшими головками.
Рынок – это естественность и правда. И как бы он ни раздражал иногда, сюда всё же тянет, потому что именно здесь узнаёшь истинную цену товару и людям.
Моё внимание привлёк полуметровый гипсовый кот. Со слащавой мордой и алыми губами, он был собратом тех котов, которые в прошлом украшали комоды, диваны с полочками и туалетные столики. Осмеянные советской печатью как символ мещанства, они, словно обидевшись на людей, договорились и куда-то ушли. Это был первый кот, которого я видел за последние тридцать лет. Он вернулся. От него веяло чем-то далёким и уютным. От него веяло временем, когда был ещё жив старый Дранкель.
Увидев мой интерес, мужчина с наколкой «Север» на левой руке осклабился, показав ряд коронок из нержавеющей стали.
– Покупай, – сказал он. – Будешь деньги копить.
– Сам изваял? – поинтересовался я.
– Ну! – не без гордости сказал продавец. – Славное животное, бери.
– Что-то давненько их не было видно, – сказал я.
– Так ведь нас, деятелей искусства, перекинули на лесозаготовки. Покупай! За червонец отдам.
Я достал рубль и опустил в щель в голове кота.
Затоварившись творогом у пожилой селянки в белом платочке, я свернул к грузовику с молдавским номером. Вокруг машины кипела толпа. Помидоры ещё не продавали, но народ уже ненавидел друг друга. Разгорячённые тела нащупывали слабое место между других тел и вдавливались, втискивались, ввинчивались. Всё, что было слабее, податливее, оттеснялось от машины. Рослая молдаванка устанавливала у края открытого борта весы. У неё были красивые ноги с сильными икрами. Под ситцевым сарафаном, который раздувался от резких движений, угадывались крутые бёдра. Движения её были ловкими, уверенными.
– Почём помидоры? – спросил я у мужчины, которого выдавили из толпы и который безуспешно пытался вернуться на прежние позиции.
– По пять рублей, – бросил он, не оглянувшись.
Оценив ситуацию как безнадёжную, ещё раз с сожалением взглянув на ноги молдаванки, я пошёл прочь. В моторе машины копался человек, и я подумал, что это муж продавщицы. Мне захотелось рассмотреть его.