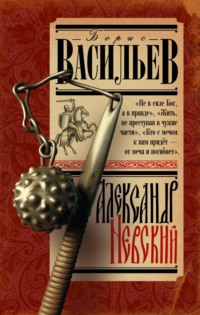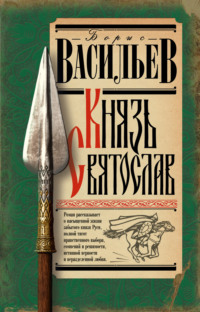Полная версия
Господа офицеры
– Каким образом?
– Болгарские волонтеры вызвались добраться до Хорватовича.
– Отчаянные головорезы эти болгары, – сказал с дивана Истомин. – Они из отряда воеводы Цеко Петкова.
– Петков в Сербии? – удивился Олексин, еще в Москве немало слышавший о легендарном гайдуке.
– Нет, он где-то в Болгарии, а сюда прислал молодежь. Самых нетерпеливых.
– Нетерпеливому коню нужна хорошая узда, поручик, – сказал Монтеверде. – Возьметесь возглавить этот отряд? Задача: добраться до Хорватовича, ознакомить его с нашим планом единого удара в районе Алексинаца, узнать о судьбе русской батареи. В дальнейшем действовать по его указаниям.
– Могу я взять с собой своего друга?
– Отвиновского? – спросил Истомин. – Странная дружба между русским офицером и польским инсургентом, вы не находите?
– Да пусть себе берет, – сказал Монтеверде. – Если согласны, ступайте знакомиться с отрядом, получайте оружие, ищите проводника – капитан вам поможет. Вечером прошу ко мне.
– Слушаюсь. – Гавриил щелкнул каблуками. – И благодарю.
Вышли вместе с Истоминым. На веранде, как всегда, курили офицеры.
– Были на аудиенции? – спросил Совримович. – Как вам наш Монтеверде?
– Послан на связь с Хорватовичем, – похвастался Олексин.
– Вот как? Когда выступаете?
– Завтра утром.
Совримович бросил окурок и, ни слова не говоря, быстро направился в дом.
– Кажется, вы довольны поручением? – спросил штабс-капитан, когда они шли через двор к воротам.
– Доволен? Этого мало, Истомин. Я горд и счастлив.
– Значит, с вас шампанское. Если вернетесь.
Последние слова он сказал хоть и с улыбкой, но как-то уж очень многозначительно. Впрочем, Гавриилу некогда было заниматься анализом истоминских интонаций: у ворот они встретили Захара и Отвиновского. Наскоро объяснив, в чем дело, Олексин отправил их готовиться и вслед за штабс-капитаном вышел на улицу.
Болгары стояли во дворе кафаны, где вчера ужинал Гавриил. Их было одиннадцать – молодых, сильных парней в белой, щедро расшитой шнурами одежде. За широкими турецкими поясами торчали рукояти ятаганов.
– Здравствуйте, господа, – сказал Истомин. – Вот ваш командир поручик Олексин Гавриил Иванович.
– Добре дошли, – сказал старший отряда; молодое лицо его было обезображено широким шрамом. – Меня зовут Стоян Пондев. С остальными потом познакомитесь, а это мой ординарец Любчо.
Он кивнул на худенького паренька с большими девичьими глазами. Паренек сразу отвернулся, а болгары заулыбались.
– Я оставляю вас, – сказал штабс-капитан. – Надо проводника искать.
Он поклонился и ушел. Гавриил сел на доски, сложенные у забора, болгары расположились вокруг, а застенчивый Любчо устроился за их спинами. Рассказывая о задании, Олексин все время ловил на себе его быстрый изучающий взгляд, и взгляд этот почему-то смущал его.
– Как видите, задача наша проста: дойти и доложить.
Болгары переглянулись. Стоящий ближе всех широкоплечий парень с оспинками на лице что-то быстро сказал по-турецки. Войники рассмеялись, только Любчо сердито нахмурился.
– Митко говорит, хороша у волка шкура, да зубы мешают, – сказал Стоян. – Мы знаем турок, командир. Там, где нет дорог, они высылают черкесов.
– Черкесов боитесь, молодцы?
– Боялась баба в лес за дровами сходить, так в дому и замерзла, – уже по-болгарски сказал Митко.
– Нужен проводник, командир, – уточнил Стоян. – Нужен хороший проводник, чтобы идти без дорог и там, где не может напасть кавалерия.
– Нужны магазинки, – сказал черный, как цыган, парень. – Если будут магазинки и много патронов, черкесы не страшны. Они не любят огня.
– Кирчо правильно говорит, надо просить магазинки, – подтвердил Стоян. – При штабе есть оружейный склад.
– Оружие обещали, – сказал Гавриил.
– Надо брать самим: они для кого-то берегут хорошие винтовки.
– Для турок, – усмехнулся Митко.
Болгары опять засмеялись. Они вообще смеялись часто и охотно, и это тревожило Олексина. Он и сам был молод, но считал смешливость чертой невоенной и старался почаще хмуриться.
– Смех в то время, когда гибнут ни в чем не повинные люди, когда позорят женщин и вешают их мужей, считаю неприличным, – сказал он.
Болгары растерянно замолчали. Стоян нахмурился, а Любчо вдруг вскочил и, не оглядываясь, пошел со двора.
– Любчо! – крикнул Стоян. – Любчо, вернись!
Ординарец не остановился, и Стоян торопливо направился за ним. Митко сокрушенно цокнул языком, а черный Кирчо сказал неодобрительно:
– Не надо об этом говорить. Никогда.
– Прошу извинить, – сухо сказал поручик. – Однако такая чувствительность, как у вашего Любчо, больше подходит девице, чем воину.
Парни неожиданно расхохотались. Они смеялись так искренне, что Олексин не выдержал и тоже заулыбался.
– Ну и глаз у тебя, командир! – весело кричал Кирчо.
Вернулись Стоян и Любчо. Ординарец был красен как маков цвет и прятал глаза.
– Любчо, командир интересуется, почему ты без усов! – крикнул Митко.
– Хватит, – строго оборвал Стоян. – Кажется, к нам идут.
К ним приближались Совримович и Бранко. Подойдя к Олексину, Совримович щелкнул каблуками:
– Честь имею явиться, поручик. Назначен вашим помощником. А это наш проводник.
Обе новости чрезвычайно обрадовали Гавриила: он привык к Бранко, а то, что серб добровольно вызвался идти с ними, Олексину было понятно – он помнил дорожную встречу. А Совримович уже побывал в деле, в прямом смысле понюхал пороху, и поручик очень надеялся на его боевой опыт. Конечно, болгары тоже были боевыми ребятами, но опыту кадрового офицера Олексин все же доверял больше, чем партизанским навыкам повстанцев.
Они отправились получать оружие, и Совримович, используя знакомства и недавнюю службу в штабе, сумел добиться новеньких магазинных винтовок «пиподи-мартини». Болгары брали их в руки с почти благоговейным восторгом.
– Мне бы эту магазинку в апреле! – вздыхал Кирчо. – Поплясали бы у меня турки.
Поручив продовольственные дела Стояну и отрядив ему в помощь Захара, Олексин с Совримовичем и Бранко до вечера обсуждали предстоящий маршрут, искали укрытые от внезапных кавалерийских налетов ночевки. Совримович тоже опасался черкесских клинков, тоже советовал быть осторожнее:
– Тактика у них старая, Олексин: набег. Любят атаковать из укрытий, внезапно. Стреляют, как правило, неважно, но шашками владеют отменно. Если не удержимся – сомнут и вырежут. Узнайте у Монтеверде, что слышно о черкесах.
Вечером Гавриил спросил об этом у помощника начальника штаба. Монтеверде очень удивился:
– Какие черкесы, поручик? Черкесы, абреки – это у вас от кавказских рассказов. Лермонтовым зачитывались?
– Однако болгары уверяют…
– Болгары путают, – перебил полковник. – Да, башибузуки кое-где, возможно, просочились, но черкесы… Слышите, Истомин?
– Это нонсенс, Олексин, – пожал плечами штабс-капитан. – У ваших приятелей болгар черкесская паника, уверяю вас.
Получив подробное разъяснение предполагаемой операции, поручик распрощался с Монтеверде и Истоминым. Штабс-капитан придержал руку:
– У турок, по нашим сведениям, нет кавалерии вообще. Так что с Богом, Олексин.
Несколько успокоенный этими заверениями, поручик не стал заходить к Совримовичу. Было уже поздно, на рассвете предстояло выступление, и он прямо пошел к себе. Ночь была тихой и звездной. Выйдя из душной комнаты, поручик с наслаждением вдохнул полной грудью и подумал, что пока ему – тьфу, тьфу! – везет и, кто знает, может быть, по возвращении на родину и на его груди сверкнет Таковский крест… Он тут же постарался изгнать из головы тщеславные мысли, ибо ехал сюда не за крестами и не лгал утром Монтеверде. Спустившись с веранды, он обогнул штаб и направился к шалашу, где ночевали Захар и Отвиновский. Еще издали он заметил небольшой костер, возле которого сидели трое: Совримович не ушел спать. Гавриил коротко рассказал о последнем свидании с начальством, особо упирая на «черкесские страсти».
– Не понял: вы нас убеждаете, что никаких черкесов в тылу нет, или они вас в этом убеждали? – спросил Совримович.
– Во всяком случае, я в этом почти уверен. Черкесы – типичная тыловая паника.
– А брат Бранко – тоже паника? – хмуро поинтересовался Отвиновский.
– Я получил приказ как можно скорее доложить Хорватовичу. А если мы будем ползти по кустам в страхе господнем, то сведения просто-напросто устареют. Штаб заверяет нас, что черкесов нет, значит их нет, мы обязаны верить штабу.
– Возможно, возможно, – вздохнул Совримович. – И все же что-то мне здесь не нравится… Скажите, Олексин, вы действительно в добрых отношениях с Истоминым?
– Надеюсь, что мы друзья.
– Преуменьшать опасность – плохая дружеская услуга.
– А преувеличивать ее?
– Преувеличивать естественно, но ведь он же не преувеличивает? Ну да бог с ними. – Совримович встал. – Будем полагаться на себя. Спокойной ночи, господа.
– Знаете, Олексин, а я не верю ни единому слову вашего приятеля Истомина, – сказал Отвиновский, когда Совримович ушел. – Он лиса.
– С какой целью ему хитрить, скажите на милость?
– Вот этого я не знаю.
– Господи, до чего же вы недоверчивы, Отвиновский.
– Доверчивость растрачивают, поручик, и, очевидно, мои запасы подходят к концу. Хорошо это или дурно – не мне судить, а только путешествие наше будет совсем не таким простым, как это нам пытаются предсказать.
– Я не отрицаю опасностей, Отвиновский.
– А если опасно, то зачем же девчонку брать? – вдруг сердито спросил Захар. – Не бабское это дело, ваши благородия.
– Какую девчонку?
– Да болгарку, какую же еще? Послали вы меня за продуктом, а болгарский старшой в помощь ординарца своего отрядил.
– Любчо? – спросил Олексин.
– Любка она, а не Любчо, – хмуро поправил Захар. – Я как глянул, сразу в сомнение: больно уж тонок паренек-то, больно уж нежен, да и ходит как баба, нога за ногу цепляется. Что-то, думаю, не того, что-то, думаю, проверить надо.
– Проверил? – улыбнулся Отвиновский.
– А как же! В складе за грудки ординарца этого цап! А там что положено. А она мне вжиг по одной щеке, вжиг по другой. Аж искры из глаз. И в слезы. Ладно, говорю, девонька, виноват, ежели так вышло.
– Девушка? – растерянно спросил Гавриил. – Нет, этого я не потерплю. Завтра же в тыл, к маме!
– Ясно, – кивал Захар. – Не бабское дело.
– Молодец, Захар! – весело хохотал Отвиновский. – Значит, все что положено, говоришь? Вот это разведка! Учитесь, поручик!
5Василий Иванович не поехал ни в Смоленск, ни в Москву, ни в Псков: он хотел бы повидать родных, но неизбежные разговоры о прежних идеалах, о жизни в Америке и, главное, о его семье были настолько неприятны, что он предпочел переписку. Мамы больше не было, а остальных он слушать не желал, подозревая, что все они резко восстанут против их брака, не освященного церковью, а значит безнравственного и незаконного в глазах общества. Уже в письме Вари он уловил неудовольствие по этому поводу и с той поры обязательно отговаривался от приезда крайней занятостью.
А занят он не был ничем. Поселились они в Туле, где у Екатерины Павловны были дальние родственники, сняли квартирку с хозяйскими дровами и пробавлялись случайными заработками: Василий Иванович бегал по урокам, а Екатерина Павловна, имея диплом повивальной бабки, довольствовалась случайной практикой в домах бедных, часто поэтому стесняясь брать деньги за услуги.
– Знаешь, Вася, такая голь неприкрытая, такая бедность, что…
Она замолкала, не решаясь признаваться в собственной непрактичности. А Василий Иванович неизменно отвечал:
– Доброе дело дороже денег.
Жили бедно, часто отказывая себе в самом насущном и беспокоясь только о ребенке. Бедность заставляла изворачиваться, и Василий Иванович вскоре научился многое делать сам: чинил обувь, столярничал, вызвался покрыть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам составлял краски. Клиентура была невелика, но давала некоторый заработок.
Жизнь текла тихо. Родственники Екатерины Павловны – выходцы из села, пробавлявшиеся ремеслом и мелкой торговлишкой, – были людьми богобоязненными и ограниченными, пациентки и редкие заказчики – им под стать; в гости Олексины не ходили и у себя не принимали. Кроме акушерки Марии Ивановны, с которой Екатерина Павловна познакомилась на общем поприще.
Мария Ивановна заходила на чай, к которому непременно приносила то пряники особой выпечки, то пирог собственного изготовления, то конфеты, присланные из Петербурга. Расспрашивала об американском житье, о семье, о взглядах на религию и церковь, хорошо слушала. Вначале Василий Иванович стеснялся, разговор обычно вела Екатерина Павловна, а потом осмелел, стал рассказывать сам. Как-то зашла речь о графе Льве Николаевиче. Василий Иванович читал почти все, что было опубликовано, высоко отзывался о Толстом как о писателе, но не верил ему как человеку. Усмехался скептически:
– Граф мастерски потрошит человека, Мария Ивановна. Мастерски, но – постороннего. А вот господин Достоевский ставит опыты на себе. Себя потрошит, и ему больно. Больно ему, а его сиятельству не больно. Один – блистательный патологоанатом, а второй сам у себя вырезает аппендикс. Или того страшнее – язву из сердца.
– Полно, Василий Иванович. Сомневаться в огромном таланте Льва Николаевича даже не модно.
– А я и не сомневаюсь в его таланте, а может быть, и в гениальности. Но зло у графа теоретическое. А у нас практического зла – девать некуда. Практического – и во фраках, и в мундирах, и в армяках. Как с ним прикажете бороться?
– Но ведь вы тоже, Василий Иванович, отрицаете борьбу как непременное условие развития общества.
– Отрицаю как самоцель: борьба, борьба и борьба. Нельзя безболезненно переносить законы природы на человеческое общество хотя бы потому, что природа не знает нравственности, а человек отрицает отсутствие этой нравственности. Сумеем ли мы соединить эти крайности, если будем слепо проецировать аксиомы диалектики с природы на человека?
Мария Ивановна спорила осторожно, только намечая тему и давая Василию Ивановичу высказываться, как он хочет. Не пыталась защищать свою точку зрения, а просто слушала, лишь изредка направляя разговор. Екатерину Павловну беспокоила эта манера:
– Она словно выпытывает.
– Нет, Катенька. Просто у нее нет позиции, и она ощупывает мою. Все естественно. Мария Ивановна – добрый человек. Добрый и страдающий.
– Почему ты решил, что она страдает?
– А разве можно быть добрым, думающим и не страдать?
Обычно Мария Ивановна приходила в субботу, если не было вызовов. Олексины привыкли ждать ее в этот день и очень удивились, когда она появилась в четверг.
– Мария Ивановна, вы ли это? – громко спросила Екатерина Павловна, открыв дверь. – Признаться, не ожидали и очень, очень рады.
Василий Иванович услышал и успел юркнуть в комнатку Коли: был одет по-домашнему, распустехой. Старательно привел себя в порядок, вышел:
– Мария Ивановна! Какими судьбами в будний день?
– Среди ваших братьев есть Федор? Федор Иванович Олексин?
– Есть. – Василий Иванович несколько оторопел. – Федя. Студент. А почему вы спросили, Мария Ивановна?
– В городской больнице лежит какой-то Федор Олексин. Доставил его неизвестный бродяга-солдат, сказал, что подобрал на дороге.
– А… что с ним?
– Было сотрясение мозга, как мне сказали. Но вы не волнуйтесь, Василий Иванович, он уже в полном сознании, все позади.
– Идем! – Василий Иванович заметался. – Катенька, извозчика!
– Извозчик у дома, я не отпускала, – сказала Мария Ивановна. – Только оденьтесь же: на улице дождь.
В благотворительном корпусе пахло промозглой плесенью, карболкой, плохо выстиранным бельем. На выщербленном каменном полу стояли лужи, железные койки проржавели, и даже сестры, в отличие от общих отделений одетые в серые халаты странноприимниц, казались убогими и нездоровыми.
Федор лежал у стены в низкой сводчатой палате. Он не удивился и не обрадовался, увидев брата: он вообще уже ничему не удивлялся и не радовался. Глянул отсутствующе, и этот взгляд больнее, чем все остальное, резанул Василия Ивановича.
– Феденька, узнаешь меня?
– Узнаю, – тусклым голосом сказал Федор. – Васька-американец.
Впопыхах забыли об одежде, а своей у Федора не оказалось. Завернули в казенное одеяло. Серая сестра шла сзади, напоминая:
– Верните, господа, не позабудьте. Уж пожалуйста, верните: больным не хватает.
Всю дорогу Федор молчал, не отвечая на вопросы и ничем не интересуясь: куда везут, зачем, почему. Ему было все безразлично, все существовало точно в ином измерении, а в том, в котором находился он сам, были только воспоминания. И больно ему было не от толчков пролетки, а от этих воспоминаний. Только на квартире он несколько оживился. С видимым удовольствием вымылся, надел чистое белье, безропотно лег в постель.
– Кто эта женщина?
– Моя жена. Екатерина Павловна.
– Милая женщина какая.
– Ах, Федя, Федя! – Василий Иванович смахнул слезу. – За что же тебя-то, а? Тебя-то за что?
– Сейте разумное, доброе, вечное. – Федор медленно улыбнулся. – Сейте, только спасибо вам никто не скажет, не уповайте. Это ошибка, Вася. Поэтическая ошибка.
– Не думай сейчас ни о чем, не думай. Ешь, спи, набирайся сил. Силы – это главное.
– Мысли, как черные мухи, всю ночь не дают мне покою… – Федор помолчал, спросил вдруг: – Я постарел, брат? Да, да, постарел. На сто лет постарел.
– Федя, Господь с тобой, – пугаясь, сказал Василий Иванович. – Ты поспи лучше, Федя, поспи. Завтра поговорим. Вот проснешься утром, а рядом на полу – мальчуган. Коля. Он с тобой спать будет в этой комнате.
– Думаешь, брежу? Или, того чище, с ума тронулся? – улыбнулся Федор. – Нет, брат, здоров я. В твердом уме и ясной памяти. Знаешь, когда старость наступает? Сейчас скажешь, с возрастом, мол, тело изнашивается, обмен веществ и прочее. Нет, Василий, это еще не старость, это износ. Физическое одряхление. А старость – это познание тайны, только и всего. Одним на это познание жизни не хватает, и умирают они дряхлыми младенцами. А иным открывается она, тайна эта. Простая, как ухват. Вот тогда и наступает прыжок в старость, даже если тебе двадцать лет от роду: что, молодых стариков не встречал? Встречал, брат, встречал. И сейчас встретил: меня. Я эту тайну знаю теперь, хорошо знаю. Я ее головой почувствовал, самым темечком, детским местом. Помнишь, макушки в детстве считали, у кого сколько? У тебя две, я помню. Двухмакушечный ты, счастливчик, значит. А у меня одна-единственная. И мне по моей единственной макушечке – колом…
– Федя, прошу тебя, успокойся.
– Я спокоен, Вася, спокоен. Я теперь так спокоен, как тебе и во сне не приснится. На всю жизнь спокоен, потому что искать более нечего. Вбили в меня тайну великую, и я – прозрел. Подл человек, Вася, подл изначально, по натуре своей – вот и вся тайна. Вы идеи сочиняете, сеете разумное, доброе, себя на заклание обществу готовите, об отечестве помышляете, жизней своих не щадите, а человек – подл. И какое бы вы открытие ни сделали, какой бы рай земной ни построили, как бы ни витийствовали, все равно человек – подл. Не подлец, заметь, подлец – это крайность, а просто подл. Тихо подл, подспудно подл…
– Не буду говорить с тобой, Федя, ты болен.
– Я не болен, я прозрел, Василий, прозрел. Созидайте, стройте, упивайтесь идеями – к концу жизни, даст Бог, прозреете и вы. Не все, конечно: большинство-то как раз и не прозреет, так и помрет дряхлыми младенцами. Но ты пораньше прозрей, Вася, ты постарайся, Вася. А сейчас запомни, как «Отче наш»: человек подл. Каждый человек подл и все без исключения. И я, и ты, и жена твоя, и…
– Мама тоже?
– Что? – растерянно переспросил Федор.
– Я спрашиваю, мама тоже была подла?
Федор надолго замолчал. Лежал, уставясь в потолок синими глазами, смешно и беспомощно выпятив тощую бородку. Потом сказал:
– А это нечестно.
– А лгать на людей честно?
– Это не ложь! – Федор дернулся на кровати. – Я заплатил за это, заплатил, слышишь? И ты не смеешь! Ты, двухмакушечник, баловень судьбы.
– Тебя вешали, Федя? – вдруг тихо спросил Василий Иванович, нагнувшись к заросшему лицу. – Вешали тебя? Потным арканом за шею? – Непроизвольным жестом он судорожно потер ладонью под тощей, как у брата, но аккуратно подстриженной бородкой. – Больно, когда убивают, правда? Больно. Лежи. Заснуть постарайся.
Он вышел в другую комнату, где за самоваром сидели женщины и глазастый напуганный Коля. Выпил стакан чаю, сдержанно отвечал на расспросы, думая о своем. Потом отставил стакан, побарабанил пальцами и сказал:
– Мария Ивановна, мне бы место какое ни есть. Извините, что прошу, это неприлично, понимаю, но деньги нужны. Твердый заработок: Федора поднимать надо. А у своих просить не хочу. Не хочу!
– Какое место вы бы желали, Василий Иванович? Может быть, домашним учителем?
– Учителем – это замечательно, Мария Ивановна. Замечательно.
– Долгом почту помочь вам, дорогой Василий Иванович, – с чувством сказала Мария Ивановна. – Я наведу справки, надеюсь в субботу обрадовать.
– Я закончил математический факультет в Петербургском университете, – говорил Василий Иванович, провожая гостью. – Могу готовить по точным наукам – математике, физике. Впрочем, по любым, по любым в пределах гимназии. Я проштудирую курс, я готов ночами…
Федор хорошо выспался, с аппетитом позавтракал. Екатерина Павловна разыскала самого знаменитого врача, объяснила обстоятельства. Заинтересованное светило приехало незамедлительно: случай был любопытным. Он тщательно осмотрел больного, успокоил, выписал лекарства. Потом пил чай в большой комнате, шепотом рассказывая:
– Сильный ушиб головы с сотрясением мозга. Не исключаю кровоизлияния в теменную область. Однако особой опасности не нахожу: организм молодой, здоровый.
– Психическая травма возможна? – осторожно спросил Василий Иванович.
– Не исключена, не исключена, милостивый государь: потрясение было сильным. Покой, прежде всего покой. Постельный режим, легкая пища, портвейн по утрам. Никаких излишеств, никаких душевных напряжений. Читайте ему что-нибудь простенькое. Журнальчики, Понсон дю Террайля. А как он попал в общество бродяг, на дорогу?
– Кажется, в Киев шел, в Лавру, – нехотя сказал Василий Иванович.
– Ваш брат религиозен?
– Нет. Просто увлечение молодости.
– Да, хотим все познать, – сказал доктор, вздохнув. – Все, даже непознаваемое. Неугомонное существо человек! И знаете, это прекрасно. Любознательность утоляет только опыт, и, пока человек не утратит этого святого чувства, он остается человеком. А коль заменит однажды любознательность любопытством, то будет преспокойненько сидеть у себя дома и пробавляться слухами. И уже перестанет быть человеком разумным.
Федор выдержал строгий режим неделю и запротестовал. После долгих увещеваний столковались, что один раз – к вечернему чаю – он будет сидеть за столом ровно час.
В субботу с нетерпением ждали Марию Ивановну. Прислушивались к каждому стуку, два раза ставили самовар – и напрасно. Василий Иванович не унывал, но был озабочен:
– Биография моя подкачала, Катенька. Кому нужен нигилист в учители детей своих?
Мария Ивановна приехала в воскресенье. Вошла, таинственно улыбаясь:
– Здравствуйте, господа. О, и Федор Иванович поднялся? А можно ли вам, Федор Иванович?
– Через сорок минут будет нельзя, – серьезно сказал Федор.
– А я с приятным известием, – сказала Мария Ивановна, садясь к столу. – Извините, что вчера не пришла: не поспела обернуться.
– Откуда не поспели? – насторожился Василий Иванович.
– Угадали, Василий Иванович, угадали! – заулыбалась Мария Ивановна. – В Ясной Поляне была, так что угадали. Узнала, что Толстые учителя своего уволили. Рождественского. Представляете, в классной комнате попойку учинил, и его же ученик Сережа, сын Льва Николаевича, нашел его там мертвецки пьяного! Ну-с, место свободно. Я переговорила. Ждут.
Василий Иванович молчал, сосредоточенно изучая стакан. Екатерина Павловна глянула на него, торопливо заулыбалась:
– Мария Ивановна, голубушка, уж и не знаю, как вас благодарить.
– Сережа хороший, добрый и способный мальчик, – продолжала акушерка, посматривая на молчавших братьев. – Вам будет легко с ним, Василий Иванович.
– А с графом-писателем? – спросил Федор.
– Не скрою, граф – человек сложный, но я убеждена, что Василий Иванович уживется с кем угодно.
– Извините, уживаться не привык, – сухо сказал Василий Иванович. – Да, не привык! И к тому, чтобы лакеи в белых перчатках обеды подавали, тоже не привык.
– Помилуйте, Василий Иванович, какие белые перчатки?
– Благодарствую за хлопоты, уважаемая Мария Ивановна, но это место не для меня. Да, да, не для меня. Катя! Вспомни наши разговоры, наши клятвы на корабле, наши мечты.