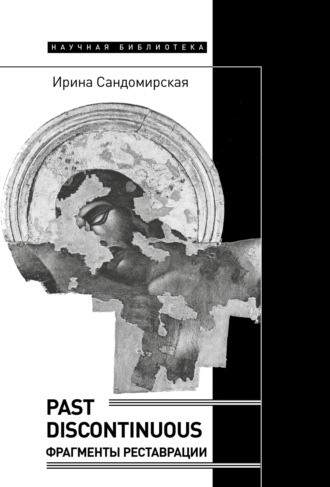
Полная версия
Past discontinuous. Фрагменты реставрации
Часть I. Со стороны вещей: память по ту сторону языка
1. «Жил человек рассеянный…»
О (ленингр)адских (я)сновидениях: психодрама, фантасмагория и маркетинг памяти
Вот такое объявление недавно попалось в мою социальную сеть:
Что мы читаем, когда читаем поле вещи. ‹…› «Что видала эта чашка».
Предположим, мама держала эту чашку в руках, когда отец сообщил, что уходит к другой женщине.
Мама с папой давно умерли, прошло несколько десятков лет, чашка стоит в серванте на даче. Берем ее в руки и читаем.
Она помнит полевые координаты в то, что чувствовала мама.
Если чашка прожила богатую жизнь, и помнит и свадьбы, и разводы, и «у нас будет ребенок», и «мне больше не с кем из нее пить», то все эти координаты через нее читаются, и можно даже их расслаивать и путешествовать в разные события. ‹…› К некоторым вещам специально (осознанно или полуосознанно) «прикрепляют» ресурсные, благословляющие состояния. Одеяло, согретое маминой любовью, чтобы ребенок лучше спал и быстрее поправлялся, если болеет. Такие одеялки могут передаваться из поколения в поколение.
Платок супротив страшных холодов, а на самом деле оберег в лихие времена. Ложка-вилка с инициалами – единственное, что не обменяли в блокаду на хлеб – символ силы семьи.
Некоторые вещи «просто» собирают обережные силы, а некоторым они придаются специальным образом. Это прежде всего орнаменты или способ вязания. Их смысл сейчас уже часто утрачен, но сами они к этому смыслу по-прежнему проводят. Его можно (не словами) прочесть.
По утверждению ее адептов, практика «семейной и групповой терапии под названием системных расстановок» основана на идее поля, то есть пространства «взаимосвязи между всеми членами своего рода, даже с теми, кто уже умер или о ком ничего не известно». Такая связь носит болезненный характер и требует «терапии поля», основанной на «феномене заместительного восприятия»:
Это означает, что человек, назначенный в расстановке на роль другого человека (назовем его прототипом), может в общих чертах воспринимать, что происходит или происходило с этим прототипом… Не имеет значения, известно ли что-то заместителю о прототипе, жив прототип или уже умер. Также не имеет значения, является ли прототип человеком или «абстрактным понятием» (таким как Война, Судьба, Страх и др.), и знает ли вообще заместитель, кого/что он замещает[77].
«Чтение чашек», согласно этой методике, становится возможным, потому что действие «поля» распространяется и на предметы, которые также служат «заместителями», то есть носителями непереработанной, не усвоенной или вообще совсем чужой памяти. Освоение этой памяти с помощью «расстановок» создает терапевтический эффект в семейных и парных отношениях, а также в бизнесе и в отношениях с домашними животными[78].
«Систематические расстановки» – это альтернативная семейная терапия, которая совмещает в себе «идеи экзистенциального психоанализа с магическими практиками зулусов»[79]. Чтение чашек, вообще использование предметов в качестве «триггеров» предлагается Еленой Веселаго, автором собственного варианта терапии по «системе расстановок». В ее проекте психодрамы по-своему воспроизводится философский дискурс памяти с его оппозицией амнезиса и гипомнезиса, или, грубо говоря, контента и носителя. Так, практикум по чтению чашек, посвященный актуализации и памяти, запечатленной в обыденных домашних предметах, называется «Женское добро». Среди этого добра, как мы видим в одном комментарии, фигурирует, например, не только чашка, пережившая развод родителей, но еще и семейная вилка – объект исторической коллективной памяти, единственная вещь в семейном добре, видевшая блокаду и способная транслировать свою память в пространство, нарушая покой и тревожа коллективную совесть живущих в доме. Отсылка к блокаде в этом контексте меня особенно заинтересовала, поскольку память о блокаде в наши дни сложилась в совершенно особый феномен интенсивно-эмоционального, сентиментально-чувствительного переживания – тем более аффектированного, что критического и политически ответственного, исторически обоснованного понимания сущности этого катастрофического события мы все еще не имеем. Примечателен этот нюанс вопрошания об опыте блокады, когда вопрос обращается к вилке, а не к свидетелю, не к архиву, не к исторической литературе. В вилке предполагается наличие агентности, причем без антропологических метафор, но в составе ее материальности, наличие в ней времени как присутствия. Чашка и вилка обладают материальным излучением – «полем», следовым излучением исторического события. Память о событии, смысл его как будто тонкой материальной оболочкой облекает тело вещи, и при необходимости его можно от вещи отделить и манипулировать его тонкой материальностью так, как манипулировали этими предметами подлинные владельцы старых чашек и вилок.
Прямолинейный материализм этих «расстановок» отражает, как мне представляется, восстание против интерпретации, в частности против психоанализа, и против антропоцентризма как герменевтического фокуса в отношениях с миром. В нем участвует поколение, которое в детстве запоем читало «Гарри Поттера» и выросло с интуицией об одушевленности и сверхъестественных способностях предметов. Но так ли далеко уходит фантазия психотерапевтов, шаманов и авторов детских сказок от воображения интеллектуалов в академии и искусстве? Новый материализм – идеи «пульсирующей», «витальной» материальности, на равных включающей в себя людей и нелюдей, существа и вещи, в том числе и вещества. Все они обладают «силой», объединяющей социальные и органические процессы внутри и вокруг человека в единую неантропоцентрическую «политическую экологию». Такие идеи берут свое начало «в опыте детства, в мире, населенном не пассивными объектами, но одушевленными вещами»[80].
Более умеренная, но конгениальная теория такова: девочка, которая играет с куклой, одушевляет ее агентностью, так же как верующий в идола одушевляет и наделяет силой идола, а восхищающийся Давидом Микеланджело наделяет силой воздействия, способностью что-то изменить в реальности и зрителя, и общества, и самого Давида. В итоге не вещи «агентны» как таковые и не люди, предающиеся фантазиям на тему их «поля», но социальная совместность человека и вещи, между которыми эта агентность распределена как между равными участниками. Такой распределенной агентностью обладает произведение искусства в связке с художником, который его создает, фрагментом реальности, который оно отображает, и переживающим его воздействие зрителем[81].
Однако в реальности вещи есть все же примечательная двойственность: как объекты труда, познания, культа, обмена и прочие предметы не совпадают с «вещами как таковыми», которые предположительно существуют вне проекций, отбрасываемых интенциями субъекта, предписанными функциями и ценностями[82]. «Вещам как таковым» присуща «сила» и автономия от субъекта, они как бы движутся в пространстве значений и ценностей не то по собственной воле, не то по воле неподконтрольных сил, но не по воле человека: «Сегодняшний дар завтра превратится в товар, вчерашний товар – в художественный „найденный объект“; то, что было произведением искусства сегодня, завтра обратится в хлам. Вчерашний хлам окажется завтра семейной святыней». Наоборот, человек оказывается в поле напряжения этих как бы одушевленных внешней силой вещей. Две ипостаси вещности, два полюса их, вещей, социальной жизни: на одном полюсе – вещь-приспособление, вещь-товар, экран, на который спроецирована функция и стоимость; на другом – «вещь как таковая»; в своей первой ипостаси вещь «послушна»; во второй – оказывает сопротивление[83]. Не человек овладевает такой вещью, но одушевленная вещь овладевает человеком, включая его в свою материальность, затягивая в свое «поле», заряжая своей энергией. Два тела вещи: предельная материальная интенсивность «вещи как таковой» – и ее дематериализация, замена материальной интенсивности – интенсивностью дискурсивной обработки. С этой двойной телесностью – между «тварностью» и «товарностью», между «полем» и «памятником», между «душой» и «значением» – и имеет дело реставратор, когда берется придать фантасмагорической экзистенции вещи форму и статус памятника культурно-исторического значения.
О дематериализации вещей при их превращении в коллекции
Константин Вагинов был поэтом города, которому в полной мере удалось уловить душу Петербурга: спиритический сеанс общения со старыми семейными реликвиями, объявление о котором я прочитала у себя в ленте, как будто выскочил из вагиновского романа. Обитатели его фантасмагорий – тени ушедших миров, заблудившиеся в действительности советского культурного строительства, – возвращаются в коллективных фантазиях сегодня и пробуждают желания духовного приобретательства – в форме памяти или в форме исцеления от невроза – под знаком шаманских констелляций («расстановок»). Перефразируя формулу Хлебникова, сойдя с «млечного пути изобретателей» и преодолев «священную вражду», советский субъект перескочил на «млечный путь приобретателей»[84]. Приобщиться памяти вилки или чашки – значит овладеть прошлым, не неся при этом за него никакой ответственности, а просто излечившись от прошлого в качестве пациента/пациенса, случайно пострадавшего от злого времени и ищущего излечиться от собственной истории так, как пациент Хеллингера ищет «излечения» от гомосексуализма. Подобно тому как, отделившись от земли, перешла в собственность сатаны тень Петера Шлемиля, так отделяются от старых чашек и вилок чужие воспоминания и присваивается чужой опыт, как тени событий, которые случились не с нами. В романах пересмешника-Вагинова в раю социалистического строительства обитают тени прошлого – гарпагоны-приобретатели. Они живут мелкими, но неистребимыми желаниями накопления мелких же, мусорных вещей; эти страстные желания жалких вещей тем не менее порождают высокую активность снующих повсюду «перекупщиков, спекулянтов, меняющих одно на другое с выгодой для себя в денежном или спиртовом отношении»; активизируются «нерегламентированная государством меновая и денежная торговля, купля и продажа, неуловимые для финансовых органов»[85]. При этом обмениваются они не вещами, а тенями вещей, призраками, которые отделились от вещей и превратились в номенклатуру, которые как раз и оказываются объектами собирательства, накопления, классификации, каталогизации и проч., тогда как сами вещи остаются всего лишь носителями. «Гарпагониана» открывается сценой ночного бдения «систематизатора», который приводит в порядок свою коллекцию обрезков ногтей:
…перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему известном порядке. Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок, он искал его, он искал признаков, по которым можно было бы систематизировать эти предметы[86].
Перверсия, меняющая местами вещь и имя в структуре желания, полна иронии, с одной стороны, и, с другой стороны, полностью соответствует логике ценности в экономическом процессе в СССР. Если в «Козлиной песни», вагиновской эпопее о гибели Петербурга в Ленинграде 1921–1922 годов, в описании транзакций между благородными и не очень благородными коллекционерами фигурировали еще несомненно ценные вещи и подлинные антикварные редкости, то в «Гарпагониане», незаконченном полотне о ранних годах первых пятилеток, приобретатели вожделеют уже не к вещам, а к их значениям; не к физическому присутствию вещей, которым наслаждается подлинный собиратель, но к упорядоченной системе в их описаниях, в своей внушительности обратно пропорциональных полной мизерабельности и эфемерности носителей. В этом своем теневом состоянии такие вещи, сами по себе не имеющие ни материальной, ни символической ценности, оказываются искомыми и желанными редкостями, и не только потому, что никому, кроме обуянного жаждой накопительства гарпагона, не придет в голову их вожделеть и за ними гоняться, но и потому, что своей жаждой систематизации он придает обрезкам ногтей статус уникальных музейных ценностей.
У вагиновских нищих гарпагонов есть предшественник: персонаж романа Анатоля Франса «Преступление Сильвестра Бонара». Это узнаваемый тип русского креза, который уже «перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки» и остановился на собирании спичечных коробков. В погоне за одной редкостью коллекционер имел неприятности с полицией, а его супруга утратила все свои драгоценности, после чего и у нее тоже появился интерес к этой коллекции. Пересмешник Вагинов не просто пародирует известный роман, но еще и вносит в свой момент ядовитой перверсии. Русский коллекционер Франса – предсказуемо самодур и мот; он собирает всякую дрянь по причине собственной пресыщенности, потому что все остальные ценности, включая украшения жены, для него уже обесценились. В советской стране в годы первых пятилеток и культурной революции гарпагоны Вагинова коллекционируют еще более убогую дрянь, но делают это в экономических обстоятельствах, в которых (культурная) собственность, ее накопление и обмен полностью запрещены, и потому обрезки ногтей приобретают для них настолько высокую ценность, что ради них они готовы жертвовать всем.
На этой жалкой, но полной бьющих через край страстей приобретательства ярмарке тщеславия особенно ценятся псевдовещи-псевдосубстанции: «ругательства, анекдоты, красивые фразы из книг, обмолвки, ошибки против русского языка»[87], а в дальнейшем и полные эфемерности, не имеющие даже коммуникативной реальности, вроде девичьих снов. Вещи, уже буквально умершие в своих материальных контекстах, например окурки, выдергиваются из своего небытия и возвращаются в мир желаний и обменов в виде объектов культивирования, каталогизирования и систематизирования, то есть становятся вещами такой степени чистоты, которая не замутнена никакими следами потребления и корысти, ни исторической, ни эстетической ценностью, ни утилитарностью, ни полезностью. Шкаф, набитый мусором, отходами непонятно чьей и непонятно какой жизнедеятельности, оказывается перевернутым с ног на голову симметричным отображением музейного собрания.
В шкапу хранились бумажки, исписанные и неисписанные, фигурные бутылки из-под вина (некоторые из них должны были изображать великих поэтов, писателей, деятелей науки, политики), высохшие лекарства с двуглавыми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, бабочки, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские визитные карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с веревкой, наподобие рога торчащей из табаку, булки с тараканом, образцы империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и пролетарских обоев, огрызки государственных и концессионных карандашей, открытки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные и неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадтского, набор клизм, поддельные и настоящие камни (конечно, настоящих было крайне мало), пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на чашку чая по случаю прибытия делегации, на доклады о международном положении, пачки трамвайных лозунгов, первомайских плакатов, одно амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские темпы ликвидации неграмотности был здесь[88].
Ирония пересмешника попадает в цель: как занятие само коллекционирование вообще, а не только собирательство гарпагонов, представляет собой законченное воплощение абсурда. Принцип ценности предметов коллекции как раз и заключается в бессмысленности: Кшиштоф Помян в анализе философии и политэкономии коллекционирования указывал в качестве критерия коллекционного предмета именно отсутствие разумности. В отличие от вещей утилитарно-полезных, эти вещи являются носителями идеальности. Помян назвал их семиофорами, по своему характеру составляющими прямое противоречие вещам полезным, имеющим функцию и реализующим себя в мире видимых, физических взаимодействий с другими вещами. Наоборот, семиофоры реализуют себя только тогда, когда становятся объектами публичного показа, когда открывается шкаф гарпагона: несомый ими смысл невидим, но он открывается взгляду в экспозиции. Помян утверждает, что вещь может быть только тем или иным: или полезной, или ценной; или практическим приспособлением, или семиофором. Если это не то и не другое, то это не вещи, а всего лишь мусор. Пародийное коллекционирование пересмешника Вагинова, где семиофорами оказывался как раз такой мусор, еще раз относит нас ко времени романа – времени первых пятилеток и торжества утилитарной вещи, «не товара, а товарища», по слову Родченко; времени социалистической эстетики, где фетишизм, связанный с ценностью «станкового» произведения, был вытеснен искусством производственным и временем социалистической экономики; где ценности – объекты обмена и потребительского желания – заменились расчетами стоимости производства и удовлетворения практических потребностей населения[89].
Между тем в оппозиции между утилитарной вещью и семиофором, предложенной Помяном, важно то, что первое и второе – не две разные вещи, а одна и та же вещь, с одним и тем же материальным субстратом, но в разных ситуациях и на разных этапах своей истории ведущая разную «социальную жизнь». Хороший пример – музей древностей Бувара и Пекюше, составленный из фантазийных объектов сельского обихода, которым в экспозиции приписывается статус антиков. Вещь сначала выполняет полезную функцию в качестве инструмента или приспособления, а потом попадает в поле взглядов публики, в музейную или выставочную экспозицию и становится семиофором, носителем ценности в качестве культурного наследия и памяти, в случае из романа Флобера – фальсифицированным[90].
С точки зрения реставрации в эту схему следовало бы внести еще одно существенное уточнение. Реставрация занимается вещами не только в их семиотических свойствах, которые создаются публичным взглядом, и не только как носителями функций в зависимости от их использования. Для реставрации основная задача – это продолжение физического существования вещи. В реставрационной мастерской, в руках мастера, в лучах рентгена, на экране какого-нибудь сложного прибора коллекционная вещь-семиофор присутствует во всей своей ущербной, страдающей материальности. С этой существенной поправкой мы имеем дело не с двумя типами вещей, но с вещами, обладающими как бы двумя телами: одно тело – материальный субстрат, собственно вещность; другое – тело «дискурса и жеста»: носитель функции, назначения, смысла и прочего «контента»; эфемерное тело симулякра.
Атомистическое учение о вещи и образе говорит нам, что память, ценность и смысл – это тонкие пленки атомов, которые отделяются от вещи и осаждаются на органах наших чувств, сохраняя при этом и форму, и материальность вещей-хозяев, сущность которых симулякры выражают[91]. В таком случае этот нематериальный «контент» можно отделить и сохранить, не тратя сил и времени на сохранение самого материального тела. Эта идея успешно практикуется в области цифрового кураторства. Теоретик digital humanities Галина Орлова рассказывала о художественном проекте под знаком цифрового наследия, в ходе которого художник оцифровал найденные на свалке и неизвестно кому принадлежащие фотоальбомы и, расположив полученные изображения по-своему, представил их в качестве объектов культурного наследия. Художественное исследование и авторское высказывание здесь заключалось в изобретенном художником способе представления этих образов, которые художник назвал коллекцией. Был получен ответ на вопрос о том, что составляет предмет культурного наследия: не содержание объектов (оставшееся неизвестным), не память их владельцев, от которых в «коллекции» не осталось ни имен, ни историй; не сами артефакты (найденные на свалке фотографии были впоследствии возвращены на свалку, то есть предоставлены своей судьбе), но собственно придуманный художником и не имеющий никакого отношения к реальности этих вещей паттерн организации и представления этих случайно найденных данных в качестве результата коллекционирования. Как тут не вспомнить «систематизатора» Жулонбина, владельца вышеозначенного шкафа:
С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен был систематизировать и каталогизировать. Все это он должен был распределить по рубрикам[92].
Что собиралось владельцами этой коллекции, найденной на свалке, кем, когда и зачем, и вся ли она во всей полноте оказалась в распоряжении цифрового куратора – все это осталось за рамками, и вопросы такого рода не задавались. Урок этого художественного проекта был в том, что наследие создается не временем, не традицией, не памятью, не жизнью и практикой ушедших поколений, но отбирающим, оценивающим и репрезентирующим вмешательством куратора, который сначала дигитализирует и тем самым производит «контент», отделяя его от реальности, а затем манипулирует им как датой в поисках новой, нелинейной формы презентации[93]. Это, безусловно, объясняет многое не только о цифровом наследии, но и о национальном наследии в той более привычной форме, в какой мы приобщаемся ему в музейных акциях, в туристических поездках по историческим местам, при посещении достопримечательностей и пр. Здесь общий абсурд коллекционирования дополняется еще одним, новым поворотом перверсивности: не наследие требует для своего обслуживания куратора, но кураторство создает наследие, конструируя стратегию репрезентирования случайных вещей в зависимости от своей собственной цели.
Вагиновские гарпагоны «в невозможных для частного накопления условиях ‹…› все же, обойдя все законы, удовлетворяли свою страсть»[94], организуя запрещенную социалистической законностью торговлю редкостями из-под полы. Для удовлетворения этой страсти они вынуждены относиться к реальности в духе сегодняшнего «нового материализма». Два случая, которые я привела выше в качестве примеров апроприации прошлого – в практике семейной психодрамы и в художественной практике цифрового кураторства, – показывают общность в понимании прошлого, видимо, характерную для эпохи когнитивного капитализма, в которой расцветают обе эти практики. Так, констелляции-расстановки по принципу Хеллингера находят для себя применение не только в терапии, но и в корпоративной практике, у менеджеров human relations; группы по «расстановкам» не только лечат несчастливых женщин и кошек, но и находят себя в академической среде и даже в судопроизводстве, и не потому, что так удачно соединяют шаманство с Хайдеггером, а потому что полностью отвечают условиям маркетинга – универсально применимым методам производства ценности и смысла, коммерческой креативности, которая подражает приемам художественного кураторства. Один и тот же прием – упрощение и уплощение смысла и ценности до манипуляций «интуициями» в «расстановках» или до убедительной картинки в интернете – объединяет общая когнитивистская идеология, которая движет как «субалтернской» – наукообразной – шаманской практикой групповой терапии, так и наукообразной риторикой художественной практики. Бернар Стиглер, философ и антрополог медиа, автор знаменитой книги о технологиях и времени, в последних публикациях все чаще говорил об «описанной еще Платоном» пролетарианизации смысла, то есть об уплощении, упрощении и в конечном счете оглуплении в результате воздействия усредняющего алгоритма на своего пользователя[95]. Алгоритм, по-видимому, в новой цифровой реальности претендует на место той всерастворяющей и всевыравнивающей инстанции, которую у Маркса в «Капитале» играли деньги, а у Вальтера Беньямина в его наблюдениях пролетарской Москвы – язык. И в терапии «расстановками», и в курировании цифрового наследия прошлое воображают физическим объектом для манипуляции, невидимым (ино)материальным присутствием, которое при помощи алгоритмизированной специальной практики можно отделить от своего «робастного» материального носителя и распоряжаться им свободно в дискурсах и жестах «менеджмента и хореографии эфемерного»[96].
Такое «пролетарианизированное», упрощенное и уплощенное, понимание памяти свойственно и политическому маркетингу. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский – лицо, космически далекое от какой бы то ни было «субалтернской» активности, – выступил с предложением оказать помощь в восстановлении разрушенной боевиками ИГИЛ в 2016 году Пальмиры, для чего предложил использовать целую библиотеку симулякров:
фотографий, гравюр и других архивных документов, изображающих древний город со всех возможных ракурсов. Инициативы Пиотровского не ограничиваются Пальмирой. Он уже высказывался о судьбе культурного наследия Афганистана, Ирака, Мали и Йемена[97].
Пиотровский намекает в интервью, что в распоряжении Эрмитажа имеются не только «фотографии и гравюры», но и реальные артефакты с реальной – а не эфемерной – материальной вещественностью и рыночной ценностью, но с туманным провенансом и потому не подлежащие публичной демонстрации:
По словам Пиотровского, многие музеи настороженно относятся к проведению выставок, посвященных наследию Сирии. Вывоз артефактов из мест их происхождения по-прежнему остается болезненной темой. «Мы могли бы собрать большую выставку сирийских объектов и показать ее по всему миру, но все постоянно говорят о „снова все укравших новых колонизаторах“», – говорит он[98].

