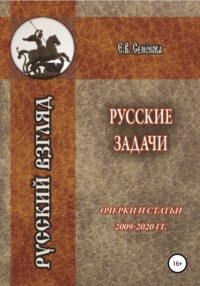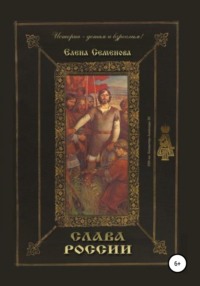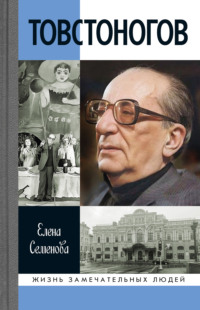Полная версия
Обретение настоящего
Раз уж решилась писать откровенно, то признаюсь: всю жизнь одолевает меня маята – боюсь казаться навязчивой. До такой степени боюсь, что даже хорошо знакомому человеку, бывает, не решаюсь позвонить лишний раз.
Однако, два противня уже стояли на столе и требовали быть съеденными. И я решилась. В конце концов, я-то знаю, что никакой корысти у меня нет, а просто подумалось, что человеку, живущему с тяжело больной матерью, некому приготовить что-то порядочное. Да и не только приготовить, а просто позаботиться. А ведь это так нужно бывает – забота, участие. И что же, не проявлять их из-за предрассудков, неписанных правил хорошего тона? Да и с каких пор забота о ближнем выходит за пределы этих самых правил?
Всё же внутри меня всё вибрировало, когда я этакой Красной шапочкой с пирогами явилась на соседский порог. Промямлила, пряча глаза:
– Вот… Позвольте угостить вас. Я очень редко занимаюсь готовкой… Для себя, знаете ли, никакой охоты нет. А так ведь и всякую квалификацию можно потерять… Вчера налепила, вот, много, а одной же мне всё это никак…
Искоса отваживаюсь взглянуть на Юрия Николаевича. Отлегло от сердца: на лице его читаю выражение благодарности и радости. Почему-то так и чувствовалось, что к нему можно вот так просто прийти, оставив условности. К кому другому – никогда. А к нему – можно. Он – поймёт правильно.
А «по Москве» в ту субботу мы гулять не пошли. Слишком много машин, шума и грохота. Сквозь него к островкам Москвы пробираться – мука мученическая. Моя бы воля, так устроила бы в центре зону заповедную – сугубо пешеходную. И чтобы никакой в ней погани шопо-макдоналдсовского типа. Но куда там! Самая дорогая земля здесь – покупай-налетай!
Стало быть, идти надо туда, где всего этого нет. А Москва исконная-посконная – она же всё равно, прежде островков, в море смердящем тонущих, в наших сердцах и памяти.
Местом нашей первой прогулки стал Донской монастырь, в целости сохранивший, если не считать крайне неуместных раскрашенных танков, свой первозданный облик и атмосферу. Даже торговли никакой не велось здесь. Лишь в стороне от храма продавали свечи, не скверня перезвоном денег святых стен. Затруднюсь сказать, кто победил в нашей «олимпиаде», когда мы рассказывали друг другу всевозможные факты о нашедших на Донском кладбище последний приют более или менее именитых соотечественниках. Полагаю, Юрий Николаевич всё-таки обошёл меня, тем более, что я с самого начала незаметно поддавалась ему.
В свой «музей» я возвращаюсь в томительном состоянии: когда хочется танцевать и плакать одновременно. Танцевать – оттого, что чудо было. И плакать – потому что оно закончилось…
Играет музыка. Это мелодия из польского фильма «Прокажённая». Сам фильм в силу излишней женскости почерка мне в своё время не лёг на душу, но музыка очаровала, подобно тому, как очаровывают фонтаны Петергофа, брызги солнца и радуга после грозы… Я кружусь по комнате, скрестив руки на груди, вызывая явное недоумение расположившейся на серванте кошки.
Музыка заканчивается, я опускаюсь в кресло и в который раз за последнее время пытаюсь понять главное – кто же я? Где моё место? Мой путь? Мои знакомые давно определились с этим. У них – работа, пусть нелюбимая, но постоянная, профессия, семьи… У меня нет ничего. И никого. Крыша над головой есть стараниями бабушки. А сама я – что сделала? К чему я и для чего? Поиск естественен для человека, но когда он затягивается на годы – это уже ненормальность. Актёрство – определённо, не моё дело. Политика – тоже. Так что же – моё? Именно моё? Или я просто слишком много хочу от жизни, не довольствуясь стандартами?
В тот вечер я загадала: если Юрий Николаевич сделает мне предложение (мысль эта, между прочим, казалась мне фантастической до абсурда), значит, это судьба. Не может быть игрой случая встреча людей, столь созвучных друг другу и диссонансом выпадающих из авангардной музыки века.
С той субботы наши прогулки стали регулярными. Монастыри, усадьбы, уцелевшие уголки Москвы – мы ничего не обошли своим вниманием, дополняя свою память о невиденном рассказами друг друга. Мы знали, кажется, все лавки, кондитерские, ресторации, мастерские, редакции, некогда бывшие в Москве. Знали всех сколь-либо известных жителей её и места, с ними связанные. Каждый уцелевший дом имел для нас своё лицо и историю.
По московским островкам до сих пор ещё можно почувствовать, что был наш город когда-то, понять его контраст с тем же Питером. Питер – строгая вычурность линий, гранитный холод. Москва – теплота и радушие. Город-призрак и город-жизнь. Жизнь – синоним былой Москвы. И о жизни этой Юрий Николаевич знал, кажется, всё. Многое я слышала прежде, но никогда не прерывала его – мне доставляло удовольствие слушать, словно бы рассказывал он мне давно не слышанную, но с детства любимую сказку.
– Люди перестали понимать красоту. Для глаз им нужно что-то яркое, пёстрое, блестящее – чтобы ослепляло. Для слуха – нечто оглушающее… Как то, что называют теперь музыкой да ещё врубают на полную катушку. Ослепнуть и оглохнуть – вот, что они хотят… И объяснять что-либо совершенно бесполезно! Для того, чтобы понимать нечто большее, чем животный инстинкт, нужна работа души и разума. А работать ими людям всё более лень. И те, кто пытаются заставить их трудиться, вызывают у них раздражение. Подозрение. На таких смотрят, как на засланцев иной, враждебной цивилизации.
– Может, так оно и есть? – шучу я.
– Возможно…
– Тогда, может, стоит сбежать отсюда? В другую цивилизацию? Или основать её?
– Дело за малым: найти необитаемый остров для основания.
В сущности, мы только тем и занимались, что сбегали в другую цивилизацию. Окружающую населяли воры, политики, эффективные и не очень менеджеры, бизнесмены, брокеры… В нашей – жили Аксаковы, Станиславский, Цветаевы, Васнецовы, Тютчев, Бородин, Вахтангов… Несть числа им – великим Москвичам разных эпох, образовавшим для нас единую среду обитания.
Несколько раз мы бывали в гостях у живых свидетелей нашего общего сна. Глубокие старики, они застали все этапы разрушения Москвы, но вместе с тем и другое – её живое дыхание, её людей… И сами они – её люди, всем существом своим. В них, как в нетронутых ещё тупичках и переулках, сохранился дух её.
Наши прогулки, чаёвничания и разговоры продолжались месяца два. А затем случилось нечто едва не разрушившее наш странный союз.
Как-то часов в шесть утра меня разбудил пронзительный звонок в дверь. Кое-как прибрав волосы и закутавшись в халат, я побежала открывать, предчувствуя недоброе. На пороге стоял белый, как мел, Юрий Николаевич. Руки его заметно подрагивали.
– Сима, простите…
– Что? Что случилось?
– Там мама… кажется, она умерла…
Юрий Николаевич выглядел совершенно разбитым и растерянным. Растеряна была и я. Но нужно было срочно что-то говорить и делать, разделить груз…
– Вы проходите… Посидите у меня пока… А я к вам…
Никогда не умею найтись, что говорить в таких ситуациях. Любые слова – до тошноты фальшивы и казённы. В отношении себя предпочитаю молчание, но другие молчание могут воспринять иначе… Об этом я не подумала.
Его мать я тогда увидела впервые, уже бездыханную. Как-то сразу стало ясно, что Юрий Николаевич не готов заниматься всем необходимым, не знает, куда обращаться, как и что устраивать. Я знала немногим больше, но делать было нечего: человек пришёл ко мне за помощью – значит, надо помогать, а не рассуждать…
Не стану описывать, как в течение нескольких дней я занималась организаций похорон, попутно приглядывая за Юрием Николаевичем. Честно признаться, я не ждала такой глубокой скорби. Обычно, когда уходит человек, столь долго и тяжело болевший, то ходившие за ним, будь то даже самые близкие люди, бывают настолько вымотаны, что уход воспринимают больше как облегчение, нежели горе. Жестоко, конечно, но такова жизнь.
После всех скорбных мероприятий я собралась, было, немного прибраться в квартире Юрия Николаевича, где царил полнейший хаос. И тут-то мне было высказано с болезненным раздражением:
– Не трогайте здесь ничего, пожалуйста! Времени ещё мало прошло… И вообще… Вы так суетитесь, словно ничего не произошло. А ведь человек ушёл… А вы… Думаете только о внешних предметах, говорите только о том, как и что оформить… Как это всё… тяжело!
Эта отповедь немало задела меня. Хорошие дела! Я взяла на себя все самые тяжкие дела, дабы освободить от них его, слишком подавленного, чтобы ими заниматься, и я же ещё и виновата?
– Простите. Не буду вам мешать. Если понадоблюсь, позовите, – говорю сухо, подавив желание высказать своё недоумение, и ухожу.
Весь оставшийся день я не находила себе места, кляня себя, что ушла. Обижаться на человека, который сказал что-то не то с горя, не подумав – не глупо ли? Нужно было проявить больше доброты и сочувствия, нужно было слова утешения найти… А что сделала я? Бросила человека в тяжёлый момент…
Порывалась пойти к нему, извиниться. Но останавливалась – может, раздражает его моё присутствие? Может, такое излишнее вмешательство вызовет досаду? Несколько раз я на цыпочках спускалась по лестнице, вслушивалась в тишину за его дверью, облегчённо вздыхала, заслышав шаги или покашливание. Я искала уважительного повода, чтобы позвонить, но не находила.
На другой день мы столкнулись на лестнице, поздоровались, обменялись вежливыми фразами… Но сухо, как просто соседи. Это было больно: рушилось то, чем я дорожила всего больше в последнее время, и не хватало житейской мудрости остановить…
Внутренне я уже приучала себя к мысли, что очередному миражу не суждено воплотиться. Тягостно это было, но привычная душа не бунтовала.
Но, вот, однажды утром я обнаружила в почтовом ящике конверт, а в нём письмо, выведенное старательным почерком: «Дорогая Сима! Я не могу дольше выносить этой неопределённости. Вы молчите, а мне не хватает духу сказать Вам то, что следовало сказать ещё раньше. Сима, я скучаю по Вам. Вы нужны мне. Согласитесь ли Вы стать моей женой? Простите, если всё это глупо и неуместно… Если так, то просто бросьте это письмо мне в ящик, забудем о нём. Но, пожалуйста, как бы то ни было, давайте встретимся в субботу, как обычно».
Читая эти строки, я чувствовала, как по губам моим разливается широченно-счастливая улыбка. Недолго думая, я сбежала по лестнице и позвонила в квартиру Юрия Николаевича. Он открыл сразу, бледный от волнения, посмотрел вопросительно, но ни слова не произнёс.
Я улыбнулась и спросила шутливым тоном:
– Ну, а где ж мы с вами будем жить? У вас или у меня?
– Так вы… согласны? – голос всё ещё тревожно-недоверчивый, но бледность начинает сходить на глазах…
– Я же не бросила письма назад…
Жить мы решили у меня, а квартиру Юрия Николаевича после небольшого ремонта сдали. В ЗАГС расписываться не пошли. Странно: даже мысли такой не мелькнуло – пойти в ЗАГС. Позже отец Виктор обвенчает нас, но штампы в паспорта мы не поставили доселе. Да и к чему? Перед Богом мы единое целое, а всё остальное – бюрократическая суета…
Глава 6. Химера
Я опускаю в моём повествовании главу, которая могла бы называться «Счастье». Счастье – материал такой фантастической плотности, что не подлежит разъятию на атомы. Горе – дело иное…
Несколькими страницами выше я обещала подробнее рассказать о благотворительной организации, в которой привелось мне работать. Привела меня в неё неизлечимая от рождения болезнь сына… Я ничего не стану писать о ней в дальнейшем, потому что ворошить в памяти всю эту нескончаемую чреду больниц мне тяжело. К тому же болезнь – это не главное в моём сыне. А главное – душа, ум, талант… И его я воспитываю именно с такой установкой: главное, его личность, его внутренний мир, а не какая-то там болезнь, будь она хоть сто раз серьёзна. Нужно не сосредотачиваться на ней, а жить своей жизнью, соблюдая некий договор с нею. Врачи утверждали, что Валька не доживёт и до года. Теперь удивляются… А я знаю точно, мой сын будет жить. И жизнь его будет полной, насколько это возможно. Его внутренняя сила, его невероятная для таких лет целеустремлённость одолеет всё врачебные вердикты.
Люди, не утратившие души (или остатков её), находят для неё много занятий. Кто-то для души играет на музыкальных инструментах, кто-то пишет, кто-то вырезает мебель. Для души ходят в театры и кино, ездят на экскурсии. А есть люди, которые для души занимаются помощью страждущим собратьям, чужому горю помогают – для души. Обычно это свидетельствует о том, что на душе очень тяжело, что лежит на ней кладь собственного горя. Мелкие печали можно рассеять концертами и экскурсиями, но для настоящего горя требуется нечто несоизмеримо большее, не витамины, а комплексная терапия. Подобное исцеляется подобным. Один мудрец советовал: если тебе плохо, пойти и помоги тому, кому хуже – станет легче. В сущности, Евангелие говорит о том же: «носите бремена друг друга» – это не заповедь смирения, а тончайшая психотерапия. За тяжестью бремен чужих меньше ощущается бремя собственное.
Среди нескольких волонтёров, работавших в нашей организации, не было ни одного в земном смысле «благополучного человека». Люди, потерявшие близких, матери больных детей, больные сами – вот, каков был основной контингент. Если остаться наедине с болью, жить ею, сойдёшь с ума. Спасение в таком случае одно – сконцентрироваться на боли чужой. Человек, не узнавший личного несчастья, редко может понять несчастье чужое. Не пережив, нельзя представить…
Часто мы жалуемся на всевозможные мелочи, чувствуем себя несчастными из-за них. И лишь встреча с настоящим горем ставит всё на свои места, выявляя действительно важное и обращая в ничто то, что по глупости важным казалось. Пополнив ряды волонтёров фонда, я поняла это всецело. Когда я слышу по телевизору, что кто-то наложил на себя руки по случаю несчастной любви, или какого-то конфликта, или ещё по каким-то высоким соображениям, то, да простит меня Бог, внутренне ожесточаюсь. Как смеют эти люди возвращать дар Творцу, не ведая настоящего горя? То же касается алкоголиков и наркоманов… «Пустота жизни», видите ли, довела. Вокруг нас – необъятное поле, требующее делателей. Сколько настоящих трагедий происходит на этом поле, скольким людям действительно нужна помощь. И что же? Не этим заполняют пустоту собственной жизни духовные калеки, а заливают горькой. Конечно, и им должно сочувствовать, тому, какое преступление творят они против собственных душ. Но мне того не хватает… При встрече с такими людьми довлеют во мне два чувства: обида за Творца, чей дар так бездарно растрачен, и оскорблённость за тех действительно несчастных, которым некому оказывается помочь.
Первая ступень вочеловечивания – помощь ближнему. Даже глубоко падший человек, однажды встав на этот путь, непременно поднимется из своего провала, воскресит в себе образ Божий. Я видела такие примеры воочию. Но нужно – воление. Если его нет, то внешними усилиями нельзя сделать из расчеловечившегося существа Человека. Можно в какой-то мере вернуть облик, на какое-то время вернуть к жизни, но все труды пойдут прахом, если нет воли. Таких примеров, увы, больше.
Основателем нашего фонда был очень странный человек. Уже пожилой бизнесмен, он потерял дочь, и, оставшись один, пустил все средства на помощь тяжелобольным детям. Он называл себя атеистом, но это неправда. Правда же состояла в том, что Глеб Григорьевич так и не смог простить Богу своего горя и всей своей благотворительностью, каждым мгновением своей страдальческой жизни продолжал спор с Ним. Как-то он с болью сказал, кивнув на группу больных детей во дворе больницы:
– Бог отказался от них, невинных… Но если Он отказался, то я не откажусь. Должен же хоть кто-то помогать им, делать за Него Его работу.
Страшные слова. Мне никогда не приходило в голову, что Бог отказался от моего сына. Если послано испытание, значит, так надо. Для чего-то, о чём Бог знает. Но Глеб Григорьевич не желал мириться с несправедливостью Божия устроения. Кто-то сочтёт, что был он одержим бесовской гордыней, раз говорил такие слова. Но я берусь утверждать, что боли и горя здесь было куда больше, чем гордыни. И боль эта была вызвана именно раздором с Богом, к Которому, на самом деле, рвалась душа этого несчастного человека. Сам он был в ту пору уже болен и знал, что скоро умрёт. Незадолго до смерти он спросил без обычной озлённости, печально:
– Отчего так? Зовёшь Его, зовёшь… А Он не слышит!
– А разве мы слышим, когда Он зовёт нас всякое мгновение? – откликнулась я. – И когда другие люди зовут нас – всегда ли слышим?
Глеб Григорьевич промолчал. Прозрачный, иссохший, как осенний лист, он смотрел вдаль, видя что-то, одному лишь ему доступное.
Мне хочется верить, что перед смертью они всё-таки услышали друг друга, и Господь принял раба Своего Глеба в Свои чертоги, отпустив ему все вольные и невольные грехи за земное страдальчество.
Итак, работа в фонде составляла существенную часть моей жизни, имевшей три составляющие: семью, работу (те же переводы и уроки), обеспечивающую нам троим проживание (Юрий Николаевич не имел постоянной работы, к тому же часто болел) и фонд, мою отдушину…
Однажды нам пришло приглашение на известное телешоу. Выпуск был посвящён нашей теме, и Глеб Григорьевич по телефону велел пойти мне:
– Ты ж у нас артисткой быть собиралась – ты и иди.
Надо ли говорить, что волновалась я до мандража? Юрий Николаевич посмеивался и успокаивал:
– Это совсем нестрашно. Тебя, может, и спросят-то раз-другой! Ответишь и делов! Можно подумать, тема тебе незнакома.
Единственное, что меня утешало: эфир не прямой. А раз так, то можно надеяться, что моё многозначительное мычание просто вырежут…
Как в тумане помню: Останкино, лифт, коридоры с бегающими людьми, наконец, студия… А в студии – ты. Больше никого заметить я не успела, окончательно онемев от неожиданности.
Пока заканчивались последние приготовления, я искоса рассматривала тебя. Почти не изменился. Тот же аристократизм, то же изящество, тот же лоск… В костюме нарочитая изысканная небрежность: джинсы, блузка, пиджак, платок… И всё, могу только догадываться, каких денег стоит. В многозапаховом пространстве не различу твоего парфюма… Тот же? Или теперь нечто более дорогое? Знаешь ли, что на улицах, случайно уловив знакомый запах, я каждый раз вздрагивала и озиралась кругом, словно надеясь тебя увидеть?
Программа начинается. На её протяжении я не смотрю в твою сторону, чтобы не разволноваться ещё больше. Не смотрю, даже когда говоришь ты. Говоришь, об ответственности общества… И я вспоминаю пиджак и блузку стоимостью в мой месячный доход… О семейных ценностях… И перед глазами у меня – брошенная тобой Шурка и её не рождённый ребёнок. Как тебе удаётся это? Так проникновенно говорить о том, чего не исполняешь сам? Неужели твоя собственная совесть не тревожит тебя в тот миг, когда ты обличаешь повинных в твоих же грехах?
По окончании передачи ты неожиданно нагнал меня у лифта:
– Сима! Ты что, так бы и ушла, не поздоровавшись? Ведь столько лет не виделись!
– Прости, Лёня, я очень спешу. У меня ребёнок болеет.
– У тебя есть ребёнок?
– У меня есть семья.
– Поздравляю!
– Спасибо!
Твой тон неискренен, но ты зачем-то втискиваешься следом за мной в лифт. Парфюм всё-таки тот же. Привычка пересилила понты…
– Если ты торопишься, то позволь подвезти тебя до дома.
– Я далеко живу.
– Мне безразлично – вечер свободен.
Устав после нескольких часов в душной студии, я не горела желанием давиться в метро в самый час-пик. Я рассудила, что у тебя наверняка хорошая машина, не хуже, чем у Григория Максимовича, а, значит, даже в пробке можно сидеть с максимальным комфортом…
Мои ожидания оправдались. Машина моего бывшего патрона оказалась «запорожцем» в сравнении с твоей. Вот, только сидела я в ней, как на иголках…
– А ты изменилась. Совсем не та девочка, которую я фотографировал в Питере…
– Теперь бы не стал?
– Стал бы. И с ещё большим удовольствием. Может, встретимся как-нибудь?
– Не могу. Я же сказала, у меня ребёнок болеет.
– Я очень удивился, увидев тебя сегодня.
– Я тоже.
– И ты тоже рада?
– А что, должна?
– Лично я рад. Скажи, ты давно работаешь в фонде?
Фонд – это безобидно. О фонде я рассказываю охотно и подробно. Ты слушаешь внимательно, задумчиво киваешь, а под конец предлагаешь провести творческий вечер для детей патронируемой нами больницы. Ты сговоришь кое-кого из знакомых, и вы приедете к нам. Не без щедрых подарков, само собой.
Эта идея, естественно, воодушевила меня. Для больных детей, для сирот – такие праздники на вес золота. Известные артисты к ним приедут! Автографы дадут, сфотографируются… А если ещё и с подарками!.. Я согласилась сразу, и мы договорились созвониться в ближайшие дни, чтобы всё обсудить.
Так ты вторично вошёл в мою жизнь, которую я наивно полагала устоявшейся. Я уверена была, что семья, глубочайшее уважение и привязанность к мужу, болезнь сына, по крайней мере, бесповоротно исцелили меня от моей химеры. Но не тут-то было. Стоило тебе появиться, и микроб ожил вновь…
Через неделю устроили детский праздник. Все наши были очень довольны моим столь удачным знакомством. Да и на подарки ты не поскупился. В тот день я хотела остаться дома, но Глеб Григорьевич настоял на моём присутствии:
– Не придёт она! Твой ведь дружок старается! Так что будь добра.
Я изо всех сил старалась держаться подальше от тебя, но не выходило. Ты всё время оказывался рядом.
– Сима, мне кажется, или ты меня избегаешь?
С чего мне было избегать тебя? Стыдно и признаться…
– Тогда садись рядом.
И, вот, за столом мы рядом, и ты что-то рассказываешь с обворожительной улыбкой, очаровывая наших сотрудниц. И, самое главное, смотришь на меня… Глаза и голос… И зачем нужно колдовство, если есть глупое сердце, не умеющее повиноваться разуму?
По окончании обеда ты снова предлагаешь меня подвезти. За окном ливень, и я не отказываюсь, потому что не взяла зонт… Дождь всегда влияет на мои нервы, будоражит, пробивает электрическим током. В дождь и грозу мне неизменно хочется идти куда-то, бежать, совершать безумства…
В тот день я едва не поддалась этому желанию. В машине ты впервые поцеловал меня, и я поняла, что больше встречаться нам нельзя, иначе рухнет то, чем я больше всего дорожу в этой жизни, потому что остановиться я уже не смогу, дойду до точки.
Именно тем вечером я решила, что нужно непременно найти отца Виктора, чтобы именно он, а не кто-либо ещё обвенчал нас с Юрием Николаевичем. Однако, решение это, окончательно вызревшее бессонной ночью, осуществится много позже…
А на другой день мне позвонили с телевидения и предложили работу. Догадаться бы мне сразу, что то была твоя подача, но увы… Я лишь обрадовалась неожиданному заработку. Переводов в последнее время было мало, все деньги от уроков шли на лечение сына, а на жизнь оставались квартирные. А если ещё и уроков станет не хватать? Юрий Николаевич болел и хандрил. О том, чтобы требовать «трудовую копейку» с него, я и не помышляла. Я слишком дорожила им, слишком привязана была, чтобы заставлять его заниматься чем-то, что ему тяжело и неприятно, что могло бы подорвать его и без того шаткое здоровье. Для двух людей на свете я готова была без звука умереть мучительной смертью – для сына и мужа. А потому то, что всю нелёгкую ношу бытия несу на себе я, воспринималось мной, как естественный порядок вещей.
На новой работе я освоилась быстро. Моей задачей было делать репортажи на «профильные» (фондовские) темы для одной московской передачи. Поскольку в нашей группе я оказалась единственным не пьющим человеком, то карьера моя была обеспечена, ибо, когда требовалось доделать чужую не законченную по пьяной лавочке работу, то я была незаменима.
В самые первые дни мы с оператором Денисом поехали делать сюжет о бедственном положении одной семьи. Женщина родила ребёнка с тяжёлой формой ДЦП, лишилась мужа и, наконец, стала инвалидом, попав в автоаварию. А недавно паралич разбил её мать, на которой до той поры держался дом. Мне не внове подобная трагедия, но всё-таки сердце сжимается, когда мы переступаем порог. И отчего-то вспоминается Глеб Григорьевич с его отчаянным бунтом… Когда видишь такое, искушение бунта неизменно закрадывается в душу.
Я стала разговаривать с матерью, а Денис – настраивать камеру. И вдруг он потребовал:
– Вы ребёнка-то, ребёнка разверните! Так чтобы ножки его скрюченные видны были. И всё, всё! Мне же кадр нужен!
После съёмок я, потрясённая, с негодованием набросилась на оператора:
– Ты обалдел совсем, что ли?! Как такие вещи говорить можно?! Кадр ему нужен! А на людей тебе – наплевать и растереть?!
– Не ори, – флегматично ответил Денис. – Между прочим одного молодого режиссёра в молодости позвали снимать расстрел. Выстроили на рассвете приговорённых, автоматы вскинули. А режиссёр и говорит: «А нельзя ли подвинуть их? Освещение не то!» И подвинули, и расстреляли, и заснял их довольный режиссёр.