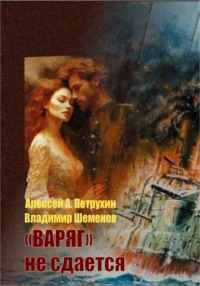Полная версия
Я ─ осёл, на котором Господин мой въехал в Иерусалим
Звон мечей, треск копий, хруст костей, крошащихся под ударами боевых топоров, крики ярости, стоны и вопли о пощаде – всё смешалось, заполнив ущелье гулом битвы и пылью, поднятой сотней пар ног.
Сквозь туман, застилавший глаза, и облако красной пыли сотник разглядел и понял: пленных не будет, – с такой яростью рубили караванщики разбойников. Обступив со всех сторон, тыкали в них копьями, кидали камни, стаскивали с лошадей крючьями и, сгрудившись над упавшими, тут же забивали их ногами.
Гул галопа стих, перейдя в дробный перестук копыт. Две кавалерийских турмы кружили вокруг каравана, отыскивая разбойников, но их не было. Воины, досадуя на неудачный день, вставляли некропленые мечи в ножны – всё было кончено без них: десять трупов, изрубленных до неузнаваемости и лежащих в самых нелепых позах, и пятеро пленных. Пленников, порядком покалеченных и напуганных, оттащили к ручью и уложили на берегу лицом вниз.
– Утопи! Утопи! – орали люди, размахивая руками.
– Иссер, ты где? – крикнул Лонгин, с лязгом задвигая меч в ножны. Руки поочередно натягивали повод, заставляла гнедого рыскать из стороны в сторону, вместе со своим хозяином разыскивая владельца каравана.
– Я здесь, мой друг, – к центуриону бежал худой, белобородый, скуластый еврей с выпученными глазами, закутанный в полосатый халлук68 и с таким же полосатым тюрбаном на голове. Края плаща развевались, открывая голые мосластые колени и подобранную под пояс тунику.
«Для удобства езды на верблюде хитро придумано», – отметил про себя сотник, перекидывая ногу через седло. Иссер поймал стремя, но было поздно – ноги Лонгина уже коснулись земли. Спрыгнув с лошади, он тут же показал на беснующуюся толпу, которая радостно скакала возле ручья.
– Останови их!
– При всей моей любви к Риму, Тиберию69 и его доблестным солдатам – я не могу. Эти несчастные, – он обвел рукой своих людей, – столько страдали, и я разделяю их гнев.
– Никто не подлежит смерти, не придя на суд.
– Слышал звон, а не знаешь, где он… Четыре казни подлежат прежде суду: побитие камнями, сожжение, убиение мечом и удушение. Про утопление там ничего не говорится, – Иссер отвернулся от сотника, давая понять, что разговор окончен. – Начинайте!
– Прочь, все прочь, – Лонгин оттолкнул старика и стал пробиться к пленным. – Всех сошлю в Кесарию70, – кричал он, расталкивая караванщиков, – где вас распнут, и не будет позорней смерти, чем смерть на кресте.
Иудеи знали про распятие, которое считалось позорной казнью и применялось обычно к рабам.
– Прости нас, господин, прости, ибо мы не ведаем, что творим, – люди умоляли его о пощаде: слова, словно мед, стекали с их уст, но их руки, словно клещи и крючки, цеплялись за ремни, за воротник панциря, наплечники, поручни, хватали его за юбку, тянули назад, не давая сдвинуться с места. А вокруг неслось: «Прости нас, господин, прости!»
Сотник слышал плеск воды, но за спинами людей не видел, что творится у ручья. Иссер, как самый старший среди евреев, воздел руки к небу, благословляя убийц.
– Бог и Создатель, и Творец, и Сведущий, и Судья, и Свидетель, и Истец. Он будет судить. Да будет великое имя Его!
– Благословен Он!!! – толпа завыла от восторга, наблюдая, как топят разбойников.
– Глупцы, не сказано ли у вас, что по труду и награда? И всякий утопивший да утоплен будет! – Лонгин крикнул нарочито громко по-еврейски, чтобы те, кто не знал латыни, могли проникнуться всей серьезностью последствий.
Но всё было напрасно. Религиозный экстаз уже охватил людей.
– Солдаты, вперед! – не глядя на римлян, Лонгин вскинул руку над головой, сжатую в кулак, и, выкинув пальцы, махнул в направлению толпы. Кавалеристы, сдвинув ряды так, что стремя одного касалось стремени другого, тронули лошадей шагом, постепенно переходя на мелкую рысь. Римляне, давя караванщиков, бесцеремонно раздвинули толпу, освободив проход. Когда сотник подбежал к ручью, только два разбойника из пятерых еще пускали пузыри. Со связанными за спиной руками злодеи лежали лицом в воде, причем ноги их были на берегу, а на спинах лежали массивные камни – так, что каждый мог сказать: «Не я его утопил, а камень».
Пока Лонгин наблюдал, как солдаты вытаскивают «утопленников», к ручью подлетел Рыжий Галл. Осадив разыгравшегося жеребца, крикнул: «Лови», – и швырнул командиру подобранный в ущелье шлем.
Хрясь!
Удар пришелся в бровь. Лонгин не видел брошенный ему шлем: расставил руки, но не поймал летящее к нему пятно.
– О Боги! – Руфус схватился за голову. Спрыгнув с лошади, подбежал к командиру, протягивая платок. – Клянусь Юпитером71, я не хотел.
– Глаза по ложке, не видят ни крошки… – взяв платок, сотник прижал им бровь, останавливая бегущую кровь.
– Прости меня. В пылу атаки я забыл, что ты можешь не увидеть его.
– Он не видел брошенный ему шлем… Он слепой… Слепой сотник, – передавали услышанное друг другу караванщики. – Слепой командует зрячими – что же тогда говорить о зрячих? Колдун, чародей, – шептали они и пятились от Лонгина.
Ужас охватил иудеев – и они опустились на колени, хотя их вера запрещала это делать – поклоняться идолам и язычникам.
Глава 3. Об ослах, козлах и прочих
Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие.
Евангелие от Луки, 3:5–6
Битые амфоры вместе с волосатой веревкой, которую я принял за злобное чудовище, давно слетели с моей спины и остались лежать где-то возле небольшого рва, отделявшего наш двор от соседского. Ров был неглубокий, не больше трех ладоней, так что перескочил я его даже не заметив. Пронесся мимо колодца под смех, свист и улюлюканье собравшихся там людей. Как я понял, скосив глаза и повернув в сторону пересмешников уши, – люди смеялись над двумя неудачникам, гнавшимися за мной.
– Лови осла! За хвост хватай, за хвост! Зачем он вам? – кричали они бегущим мимо них священникам.
И то верно, зачем я им? Вины за бой кувшинов я не чувствовал, но нужно было время, чтобы злость ушла из храмовников. Поэтому я и решил погонять их немного, превращая кипящую ярость в потоки пота. Бежал я не быстро: на умеренной скорости, так сказать, держа их на расстояние хвоста и нисколько не желая им смерти от одышки. Сделал пару кругов вокруг деревни и, осознав, что на хвосте у меня никого нет, остановился. Где я потерял преследователей и как давно они сошли с дистанции, меня не интересовало, главное – я был свободен и мог осмотреться.
«Странное дело, – думал я, – вроде, бегал по кругу, а оказался на дороге, ведущей в Иерусалим. Причем ровно посередине». Я стоял у подножия Масличной горы, склоны которой были сплошь покрыты оливковыми деревьями, и не мог понять, как я здесь очутился.
Мы, ослы, отличаемся тремя характерными чертами: хитры, трудолюбивы, а ещё у нас неплохо развито чувство интуиции, которую мы преподносим людям как упрямство. Ну сами посудите – зачем идти по мосту, если он может обвалиться? – и мы не идем. То, что он не обвалился сегодня, не факт, что он не обвалится завтра. Благодаря этим феноменальным способностям – чувствовать опасность – про нас стали говорить, что ослы тупые и ленивые.
Но сегодня интуиция меня подвела.
Вообще, честно скажу, просчитать поведение левита – задача не из легких: откуда я мог знать, что ему придет в голову навьючить на меня две амфоры, полных оливкового масла? Чужая ослиная голова – потемки, а в голове у людей вообще мрак: никогда не знаешь, что и когда человек выкинет.
Идти было некуда: в деревне меня ждали храмовники, а в городе я никого не знал. Поэтому я потоптался немного на месте и решил вернуться во двор горшечника. Авось не убьют. От этих мыслей мурашки пробежали вдоль позвоночника, от хвоста до кончиков ушей. Попасть даже к доброму живодеру не входило в мои планы – во всяком случае, в ближайшие пятьдесят лет. Я вздохнул и, повернувшись к городу задом, потопал к себе домой. Не прошел я и сотни шагов, как услышал протяжный ослиный крик: «Иаааа…».
– Хамарин, ты что здесь делаешь? – я узнал бы этот голос из тысячи голосов. Он мог принадлежать только моей мамочке. Моей дорогой, любимой маме, которая еще до рассвета ушла в город с хозяйкой. На самом деле её увели, держа под уздцы и нагрузив на спину два плетеных короба с еще теплыми, пахнущими обожжённой глиной горшками.
То, что я сотворил, было похоже на кульбит: зад взлетел и, словно рычаг, провернул мой круп на пол-оборота, благодаря чему я вновь увидел городскую стену, утыканную башнями, белую дорогу, петляющую под горой, каменный мост, сгорбившийся над шумящим потоком, и две фигуры, уныло бредущие в гору: человека и ослицы.
Моя любимая Атнат72, как я ласково называл ее. Час «Минхи» наступил, и они возвращались с рынка: усталые, но довольные. Улыбка расплылась по моей морде, и в тот же миг иссушенные пожухлые окрестности расцвели всеми цветами радуги, а жаворонки, мельтешащие высоко в небе, запели «ослиный марш».
– Инун таву73, – сказал я и затрусил им навстречу, оглашая окрестности радостными воплями: «Иа, иа, иа…»
На спине у мамы лежали, свесившись до самой земли, два мешка. Именно мешка, а не короба, с которыми она ушла утром. Значит, день удался и хозяйка продала всю посуду, сделанную ее мужем, и даже плетеные коробки. Женщину звали Сара, а её мужа – Симон. Симон-горшечник, как звал его я. И хотя все в округе называли его «гончар», лично мне не нравилось это слово? дюже оно не профессиональное, я бы сказал, не передающее суть ремесла.
Не успели мы встретиться, как рев Атнат вновь обрушился на меня.
– Я спрашиваю, что ты здесь делаешь – в восьми стадиях от дома и в восьми стадиях от городской стены?!
Я как-то оробел, не зная, что соврать…
– Гуляю.
– Ты гуляешь?! Не ври матери! Симон не отпустил бы тебя со двора, даже если бы ему заплатили за это.
– Я чего-то не знаю или вы скрываете от меня какую-то тайну? С чего это горшечнику так опекать меня? Я что, породистая лошадь, которую он выводит на скачки, или вол, которого он сдает в аренду? Я всего лишь ослик: маленький, серый и ушастый!
– Разве я не рассказывала тебе про сон, который видела хозяйка?
– Нет. А что за сон? Сон про меня? Какой я там – высокий, смелый, красивый? – она заинтриговала меня, и надо было потрудиться, чтобы унять мое любопытство.
– В тот день, когда ты появился на свет, Сара видела сон: будто к ним во двор человек завел маленького ослика, привязал к двери и, прежде чем уйти, произнес: «Позаботьтесь о нём, я скоро вернусь». «Это Ты, Господи?» – спросила хозяйка. «Ты сказала», – и он ушел, словно растворился.
– Ну и что? – я пожал лопатками. — Сон как сон, чего тут интересного?
– А то, что ты особенный, Хамарин.
– Я всегда чувствовал это.
Мы ткнулись носами. От ощущения особенности захотелось подпрыгнуть, что я и сделал.
– Веди себя прилично! – в одной фразе было столько укора, сколько я не слышал за всю свою жизнь. – Что скажет наша хозяйка, глядя на твои выкрутасы?
– Что она может сказать? Ты посмотри на неё: жара и дорога отняли последние силы. Хочешь, я довезу её до дома? Должен же я отблагодарить её за всё, что они с горшечником для нас делают.
– Спроси у нее сам.
– Эй, хозяйка, давай я тебя подвезу! – я кивнул головой, приглашая сесть на меня.
– Да что же вы так орете: «Иа, иа», – будто вас не кормили с утра, – в её голосе не было злости, только усталость от шума, который мы с мамой создали на дороге.
И то верно, чего это мы орём…
Я посмотрел на хозяйку и, пристроившись, пошел рядом к ней, демонстративно подставляя свою спину. Но странное дело: вместо того чтобы сесть на меня и, свесив ножки, спокойно доехать до дома, хозяйка на ходу сняла с плеча льняную суму и запустила туда руку, чего-то там выискивая. Вытащила морковку и протянула мне.
– Ешь, хамор74.
Вот это подарок! Ничего лучше и вкусней она не могла придумать. Я ловко выхватил зубами морковь из рук хозяйки, вскинул голову, подбросив сочный, пахнущий прошлогодними травами корнеплод, и защелкнул за ним зубы, целиком отправив в рот.
– Близятся дни, когда ты останешься один и никто тебе не нарубит соломы, не сварит опары и не загонит от дождя в стойло.
«О чем это она?» – думал я, пережевывая вкусняшку. Женщина провела рукой по спине, приглаживая мою взлохмаченную шерсть.
– Эй, дружок, да у тебя спина мокрая, – хозяйка подняла руку. – А ну стой!
Все встали, словно вкопанные. Мать с тревогой смотрела то на меня, то на хозяйку. Женщина откинула капюшон, закатала рукава и, взяв мою ногу пальцами ниже колена, подняла её. Одно копыто, второе, третье и четвертое… а их больше и не было.
– И скажи на милость, кто же тебя гонял?
– Левит с коэном.
Вздрогнули мы дружно, как по команде – я, мама и хозяйка. Подняли глаза и, хлопая ресницами уставились на стоящего перед нами человека. Это был племянник хозяйки – тот самый Иов, из-за которого я косвенно пострадал.
– Если вас призовут на суд, я буду свидетелем, что он не виноват, – Иов ткнул в меня пальцем.
– Спасибо тебе, – Сара потрепала мальца по голове.
– За что ты благодаришь меня? Вы мне с Симоном как вторая семья. Разве я должен был сказать: «Какое мне дело до того, что вас заставят заплатить за целый талант масла, которое должно было пойти на освящение храма»? Давайте я лучше пойду с вами, и если эти люди еще у вас во дворе, я первым обличу их. Иной отвечает и за убытки, причиненные им самим, и за убытки, причиненные его волом или ослом, а иной не отвечает ни за убытки, причиненные им самим, ни за убытки, причиненные его волом или ослом.
– Эй, а причем тут вол? Его там не было, – промямлил я, но, похоже, меня никто не слышал или не понял…
***
Я шел и думал: все проблемы от ума. Вот у нас, скотов, нет ума – и нет проблем. Люди сами загнали себя в стойло. Понапридумывали запретов, ограничений, приличий всяких – и страдают от них. Сюда не ходи, там не лежи, это не ешь, здесь не бери, это чистое, а вон то грязное – не жизнь, а сплошные мучения.
То ли дело у нас ослов! Всё расписано чуть ли не по годам: вывалился из утробы, окреп – и в ярмо на всю оставшуюся жизнь. Правда, бывают праздники, когда хозяин соизволит привести тебе молоденькую ослицу, – но это редко, раз в год, и то до тех пор, пока ты молод. А так – всю жизнь на хозяина ишачить. Поел, поработал, в стойло. Поел, поработал, в стойло. Причем работа занимает большую часть нашего существования. Я вздохнул, рисуя себе нерадостные перспективы дальнейшей жизни. Ну сколько я проживу – лет сорок, пятьдесят, не больше, и то если меня не будут утруждать работой. Мама рассказывала про дядю, работавшего на плотине, где он крутил колесо, орошая поля. Работал от восхода до заката за горсть ячменя. Так прожил он лет тридцать: сначала полинял, потом высох, заработал какое-то «ежовое копыто», ослеп и умер. Я дернул ушами, отгоняя мух, и еще раз вздохнул.
Все-таки людям хорошо.
Ну и что, что запреты, ведь их можно и не соблюдать. Подумаешь, нельзя есть! А ты ешь: кто увидит, особенно в темноте? Сам себе хозяин. Главное, свет не зажигай.
В памяти всплыл разговор, услышанный месяца два назад. Коэн, как всегда, считал деньги, талмиды спали, а левит просвещал всех насчет еды, нисколько не заботясь, что его никто не слушает… кроме меня. «Кто работает над смоквами, – говорил он, – не должен есть винограда, но может есть смоквы, а кто работает над виноградом, не должен есть смокв, но может есть виноград. И он вправе воздерживаться от еды, пока не дойдет до лучших плодов. Ибо сказал Господь: «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади»75.
Мне это очень нравилось. Да и нет у меня сосуда, а вот рот есть и желудок безразмерный. Уж я бы там попировал!
Если бы кто меня спросил, что самое главное для осла, я, не задумываясь, сказал бы: холодной зимой – теплый загон, обшитый с трех сторон тёсом, с непромокаемой крышей из соломы или обожженной черепицы; жарким летом – раскидистое дерево, дающее много тени; из питья – чистая родниковая вода; из еды – вкусное сено, скошенное желательно на третий день после дождя, и всякие там сладости в виде яблок, чищеной моркови, вареной свеклы и пропаренных отрубей; и чтобы убирали у меня каждый день, не заставляли много работать, а по субботам был бы выходной. Ну и, конечно же, чтобы вокруг меня крутились молоденькие ослицы, пахнущие душистыми полевыми травами, с блестками росы на ресницах и томным взглядом, из-за которого наш род ослов не переводится.
Сосед наш, самаритянин76, держал стадо ослов. Ну не стадо, а так… голов десять, не больше. Они – не ослы, конечно, а хозяева – подряжались возить мешки на мельницу. И вот в том стаде была одна симпатяшка. Мы как-то проходили с мамой мимо их стойла. Помню, аж дух захватило… Уши горели, как сухая копна, а её взгляд… этого я не забуду никогда. Пушистые ресницы и нежный лилейный голосок… «Хамарин, Хамарин», – звала она, превращая меня в соляной столб. Я готов был бежать за ней хоть на край земли… «Я женюсь», – сказал я матери в тот день. Ответ не заставил ждать: «Женишься, когда время придет».
От воспоминаний о прекрасной невесте и будущей свадьбе я опять вздохнул.
– Скажи, Сара, – Иов посмотрел на тетку, – что это твой осёл всё время вздыхает?
– Вышла я во двор, скотину попоить, смотрю, а он вывалился из утробы на солому и, вздохнув, говорит мне: «Была бы моя мать кобылой, родился бы жеребцом, а раз мать моя ослица, то и быть мне всю жизнь ослом…»
– А была бы его мать козой, родился бы козлом, – оценив шутку Сары, Иов громко хохотнул.
А вот я ничего не понял, надулся и запыхтел. Нашли с кем сравнить – с козлом!
– Первый раз вижу такого впечатлительного осла.
– Особенный он!
Ну сейчас начнет рассказывать про сон, в котором она видела человека с осликом. Это я всё уже слышал, мне бы продолжение узнать.
– Ты хочешь сказать, он мессия? – Иов с улыбкой посмотрел на меня.
– Нет! Но для него берегу.
Гадоль замолчал, переваривая услышанное.
– Кажется, я понял, – Иов, взмахнув руками, крикнул: «Ликуй от радости, дщерь Сиона77, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной78».
Он-то понял, а вот я не очень. Попросил бы пояснить – да как?..
Женщина остановилась и, вытерев тыльной стороной ладони пот, сказала:
– Эти слова я слышу каждый день.
– От кого? Скажи мне – и я принесу ему в жертву двух козлов.
– От моего мужа, Симона-горшечника, – хозяйка перекинула с плеча на плечо суму и пошла, не оглядываясь.
Иов постоял, думая о чем-то своем, махнул рукой и пошел, поспешая, чтобы нагнать Сару и поговорить с ней об осле, Симоне и Мессии, которого ждали все иудеи от Газы79 до Кесарии Филипповой80. Я тоже не отставал – в надежде, что они проговорятся и пояснят сказанное: про царя и осла.
Так и дошли до дома: я с надеждою, они с верою, а Атнат с материнской любовью. Когда показалась милая моему сердцу пальма, я пропустил вперед Иова, прячась за его спиной.
Храмовников во дворе не было, и я перевел дух.
Глава 4. Первый среди первых
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
Евангелие от Матфея, 23:27–28
Послеполуденная молитва давно закончилась, «Амида» была прочитана и строка из псалма сказана, но он не снимал талес, только всё ниже и ниже склонял голову. Потрескавшиеся, обветренные губы, смазанные оливковым маслом, шептали: «За что, Господи, ты подвергаешь народ свой испытаниям? За что посылаешь нам пророка, которого мы не желали? Сделай как было во времена отцов наших, – на минуту он запнулся, но тут же подхватил на более высокой ноте. – Ничтожными сделай знамения лжепророков, обнаружь безумие волшебников, мудрецов прогони назад и знания их сделай глупостью. Не погнушайся словами моими, пошли мне знамение, что услышан голос мой. Прости меня, Господи, что потревожил тебя просьбой своей».
Он не считал, что сильно согрешил, выдав слова, сказанные Господом пророку Исаие, за свои. Текст был другой81, но, как считал Иосиф, прозванный за свое смирение Каиафой, и один светильник освещает дом. Этим светильником он считал себя, домом – Израиль, а своим долгом – упросить Господа избавить Иудею от пророка. «В других краях, – Иосиф дернул плечом, – пусть учит, а Иудею я ему не отдам». Вспомнил первую главу из той же книги и поморщился: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы82». Ему не нравилось сказанное, и, перескочив через три стиха, Каиафа зашептал: «И обращу на тебя руку Мою, и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя всё свинцовое; и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная83».
Первосвященник поднял голову, прислушиваясь к звуку приближающихся шагов. Он стоял в полумраке горницы – спиной к двери, лицом к узкому стрельчатому окну, выходящему на восток. Ставни были прикрыты, спасая от зноя и посторонних глаз. Человек опустил веки, представляя длинный темный коридор, череду светильников, освещавших только ниши, в которых они стояли, и того, кто, ступая босыми ногами, тихо шел по хорошо подогнанным кедровым полам, выкрашенным темно-красной охрой.
Пора было заканчивать молитву, и черная, словно вороное крыло, борода вновь коснулась эфода, который он не снимет до самой Пасхи. Воздев руки, Иосиф прошептал: «Благословен Ты, Господи, внимающий молитве».
Шаги замерли возле двери – и тут же дробь пальцев пробежала по косяку, прося впустить стучавшего. Каиафа знал: так обычно стучит Малх84 – его верный раб и секретарь, которому он доверял тайные дела. Малх был его ушами и глазами в Иерусалиме. Человеком, который знал всё и про всех.
– Войди, – первосвященник порядком устал, и голос был тихим.
Каиафа повернулся к двери, придерживая талес. Кисти, пришитые по углам накидки, качнулись в такт движению головы. Две кисти спереди и две сзади, олицетворяли собой двух свидетелей, оберегающих человека от греха. Кроме них, в каждом углу было завязано по пять узлов – как напоминание о пяти книгах Торы. Кисти были собраны из восьми шерстяных нитей, не давая забыть о том, что сказал Господь Моисею. «…и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим85».
Заповеди?!
Иосиф вспомнил: именно насчет них он и посылал верного Малха в Вифанию. Разузнать, что там говорил пророк, какие заповеди дал людям, и если хоть одна из них будет отличаться от Божьих… Первосвященник улыбнулся, представляя себе, что он сделает с богохульником… Этот Иисус ему порядком надоел: лезет везде, учит всех, обличает – и кого? Его, Каиафу, входящего в Святая Святых86! В этом году ему предстояло пятнадцатый раз войти в Храм на праздник Йом-Киппур для кторета – обряда воскурения. И он не позволит самозванцу нарушить установившуюся традицию. Слишком много он потратил сил и денег, прежде чем на него надели «восемь одежд87».
– Скажи, Малх, святы ли священники?
– Все коэны святы, но первосвященник – святой из святых, – раб в почтении склонился, ожидая, когда хозяин разрешит поднять голову.
– Ты мне льстишь, – Каиафа откинул с головы талес. – Можешь расправить плечи.
– Что ты, хозяин! Малх не умеет льстить! – раб улыбнулся. – Разве ты стал первосвященником не потому, что был мудр, как сама Тора? Разве твоя наружность поднимает лошадь на дыбы, а волосы иудеев делает седыми? Разве твоя сила не сравнится с силой Аарона88, подбрасывавшего левитов в храме? Разве ты не богаче всех коэнов Иерусалима? Разве твой возраст повлиял на то, чтобы члены синедриона сказали: как бы умер? Я назвал пять качеств89, необходимых, чтобы стать первосвященником. Если угодно, я назову еще пять, но они не покроют уже сказанного.