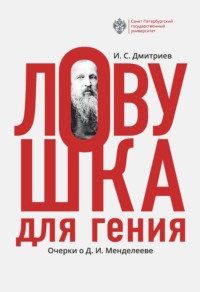Полная версия
Остров концентрированного счастья. Судьба Фрэнсиса Бэкона
127
Public Record Office, London. State Papers 12/238, f. 269r (art. 138).
128
Донн Дж. Генри Гудьеру, побуждая его отправиться за границу. Пер. Г. Кружкова.
129
F. Bacon to Lord Burghley // Bacon F. The Letters and the Life. Vol. 1 (8). P. 108–109; P. 108 («I was now somewhat ancient; one and thirty years is a great deal of sand in the hour-glass»).
130
Ibid. Это «my poor estate» в начале письма повторяется трижды.
131
«I see well the bar will be my bier, as I must and will use it, rather my poor estate or reputation shall decay» (Bacon F. The Works (1843). Vol. 2. P. 3).
132
F. Bacon to Lord Burghley // Bacon F. The Letters and the Life. Vol. 1 (8). P. 108.
133
Так в переводе А. Л. Субботина, который я воспроизвожу здесь с некоторыми изменениями (о чем см. следующую сноску). В оригинале – «auricular traditions and impostures», т. е. тайные (букв. переданные на ухо, приватно, от лат. auricularis – ушной) традиции и обманы. Видимо, Бэкон имеет здесь в виду практику алхимиков. – И. Д.
134
А. Л. Субботин перевел эту фразу иначе – «должность позволит распоряжаться с бо́льшим умом, нежели это может сделать человеческий ум сам по себе» (Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон. С. 18), а во вступительной статье к двухтомному изданию сочинений Бэкона, после приведенной цитаты следует такой комментарий: «для него [Бэкона] очевидно, что должность позволит распоряжаться с бо́льшим умом, чем это может сделать человеческий ум сам по себе. Сколько честолюбцев и до, и после него исходили в своих планах из той же очевидности!» (Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии // Бэкон Ф. Сочинения. Т. 1. С. 5–53; С. 9). Оставляя в стороне вопрос о масштабах честолюбия Бэкона (на мой взгляд, несколько преувеличенных А. Л. Субботиным), замечу только, что приведенный перевод представляется мне не вполне точным. Получается, по А. Л. Субботину, что сам по себе человеческий ум не столь толково распоряжается чем бы то ни было, как тот же ум при должности и разумном начальственном благоволении, т. е. должность как бы добавляет человеку ума. Вот зачем, оказывается, Бэкон с таким старанием карабкался по крутым ступеням придворной служебной лестницы – чтобы ума набраться! Думаю, что английский философ все же хотел сказать иное, за его словами стоит убежденность, что здание новой науки следует строить коллективными усилиями и это должно быть делом государственной важности. – И. Д.
135
F. Bacon to Lord Burghley // Bacon F. The Letters and the Life. Vol. 1 (8). P. 108–109.
136
Rawley W. The Life of the Right Honourable Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban // Bacon F. The Works. Vol. 1. P. 33–58; P. 40.
137
Elyot Th. Bibliotheca Eliotae = Eliotis librarie.
138
Проблески подобного подхода можно встретить на страницах «Advertisement Touching the Controversies of the Church of England» (1589) (Bacon F. The Letters and the Life. Vol. 1 (8). P. 74–95).
139
Henderson P. A Shared Passion. P. 99–120.
140
Pumfrey S., Dawbarn F. Science and patronage in England. P. 150.
141
Harkness D. E. The Jewel House. P. 142 et passim.
142
Исключения очень редки. Например, из королевской казны финансировалась реконструкция Дуврского порта в 1580-х годах (Ash E. H. Power, Knowledge, and Expertise. P. 55–86).
143
Harkness D. E. The Jewel House. P. 145.
144
Heal F., Holmes C. The Economic Patronage of William Cecil. P. 199–229.
145
Поначалу «никто не рассматривал Елизавету I как самостоятельную правительницу. Предполагалось, что она выйдет замуж и обеспечит страну наследником и мужем-государем. Даже Уильям Сесил, лучше других знавший способности Елизаветы I к управлению государством, молил, чтобы Бог „послал нашей королеве мужа, а со временем и сына, тогда мы могли бы надеяться, что наше следующее поколение будет жить при правителе-мужчине“ (Хейг К. Елизавета I Английская. С. 21). В целях поддержания общественного мнения королева готова была признать, что должна выйти замуж, „…если к этому будет вынуждать политическая необходимость и забота о благе государства“ (The Orations of the Commons-House. Vol. 1. P. 123). Однако, особенно после первого десятилетия правления, можно было говорить о том, что Елизавета Тюдор не стремилась к браку. Это можно объяснить причинами политического и личного характера. Выбор мужа из числа иностранных принцев мог привести к недовольству внутри страны, как в случае с ее сестрой, а в Англии подходящей кандидатуры не было. Кроме этого, будучи умной, образованной, амбициозной, она не желала появления человека, который бы ограничивал ее власть и распоряжался ее судьбой. Трагедия матери послужила ей хорошим уроком. Наличие необходимых для правителя качеств и осознание Елизаветой I своего божественного предназначения давало ей силы противостоять системе, в которой власть принадлежала мужчинам» (Журавель Н. А. Католическая фракция и политическая борьба при дворе Елизаветы I Тюдор. С. 189–190).
146
Sherman W. H. John Dee. P. 18–19.
147
Pumfrey S., Dawbarn F. Science and patronage in England. P. 140–141 et passim.
148
Pumfrey S., Dawbarn F. Science and patronage in England. P. 142–143 et passim.
149
См. описание этих торжеств в монографии: Дмитриева О. В. Елизавета Тюдор. С. 209–214.
150
Скажем, Генрих VIII завел придворного художника, им стал Ганс Гольбейн мл., который написал несколько портретов Генриха, а также создал большое собрание рисунков, включавшее портреты его придворных.
151
В отличие от большинства монархов на континенте. К примеру, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский дважды беседовали с Колумбом по поводу его проекта.
152
В 1565 году она была назначена главной камеристкой Личных апартаментов королевы. Тем самым Бланш Перри могла контролировать доступ к Елизавете и предназначенную для нее входящую информацию. Главная камеристка также могла в ряде случаев писать письма от имени Ее Величества. Кроме того, в обязанности леди Бланш входило наблюдение за личными драгоценностями, бумагами, книгами, одеждой и мехами Елизаветы.
153
Наибольшая активность изобретателей и инвесторов пришлась на 1560–1580 годы.
154
Акончо был, кроме того, юристом и теологом, проповедовавшим терпимость и согласие в христианстве. Свой трактат о толерантности он посвятил Елизавете Тюдор, в благодарность за все ее благодеяния (Aconcio I. Stratagematum Satanæ).
155
Select Charters of Trading Companies. P. lviii – lix.
156
Rabb T. K. Enterprise & Empire. P. 28–39.
157
Thirsk J. Economic Policy and Projects. P. 87.
158
Многие информаторы Сесила проживали в Сити, где было множество специалистов самого разного профиля.
159
Профессиональные осведомители использовались также для контроля исполнения «Статута о ремесленниках» (Statute of Artificers; 1563).
160
Harkness D. E. The Jewel House. P. 158–159; Adams R. «The Service I am Here for».
161
Ash E. H. Power, Knowledge, and Expertise. P. 1–18 et passim.
162
Определение местонахождения без помощи Солнца, звезд и Луны, по лагу, иногда – по лагу и компасу.
163
Ash E. H. Power, Knowledge, and Expertise. P. 8.
164
Собственно, слово expert в английском языке XVI века употреблялось как прилагательное (т. е. как being expert in a given art, но не как an expert in that art).
165
Цит. по: Ash E. H. Power, Knowledge, and Expertise. P. 10.
166
Ibid. P. 11.
167
Среди наиболее известных – Хуан Луис Вивес (Joan Lluís Vives; 1492–1540) и Томас Мор (Sir Thomas More; 1478–1535). Кроме того, в этой связи представляет интерес проект реформы университетов, предложенный Елизавете I Хэмфри Гилбертом (Humphrey Gilbert; 1539–1583), мореплавателем, единоутробным братом сэра Уолтера Рэйли (см. подр.: Ash E. H. Power, Knowledge, and Expertise. P. 13–15).
168
Long P. Openness, Secrecy, Authorship. P. 88.
169
«Quamobrem toto (quod aiunt) coelo erraverit, qui intentioni nostrae satisfieri existimaverit si artium experimenta colligantur, hujus rei solum gratia ut hoc modo artes singulae melius perficiantur» (Bacon F. Parasceve, ad historiam naturalem et experimentalem. Descriptio historiae naturalis et experimentalis qualis sufficiat et sit in ordine ad basin et fundamenta philosophiae verae // Bacon F. The Works. Vol. 2. P. 43–59; P. 53; Бэкон Ф. Приготовление к естественной и экспериментальной истории, или план естественной и экспериментальной истории, способной служить надлежащим основанием и базой истинной философии // Бэкон Ф. Сочинения. Т. 2. С. 215–229; С. 224).