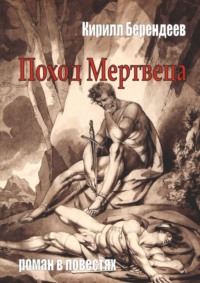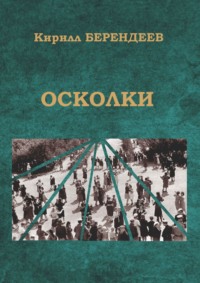Полная версия
Продавец воды
Мама могла вернуться лет через десять после окончания гражданской, когда правитель издал декрет о прощении лишенцев – тех, кто волею судеб оказался за рубежами нового отечества, но кто искренне принял прогрессивный строй, был согласен на переезд. На долгожданное воссоединение.
Цифры разнились, одно время писалось о десяти тысячах вернувшихся, потом, уточнив и соизмерив еще раз – о двадцати восьми, несколько лет назад о почти тридцати пяти возвращенцах. Я не знаю, какая из них правильная, понимал всегда, при любой цифири, что маме куда сложнее вернуться – она дворянка. А это даже не буржуазия, это сословие, это отгнившая ветвь, чуждые элементы, тормоз прогресса. Не знаю, что думали по этому поводу на юге, наверное, не узнаю никогда, но тут к потомкам дворянских родов относились по-разному. Первое время их приветствовали, если они перековывались и поддерживали новую власть – особенно своими знаниями и умениями. После гражданской, случившейся всего через два года после образования социалистического государства, их публично объявили лишенцами и заранее поразили в правах. И только спустя десять лет, будто одумавшись, хотя, что я так о правителе, дав им срок одуматься, снова стали принимать и приглашать. Дворянство в нашей стране с давних времен само стало сколачивать капитал, а перед революцией и вовсе срослось с буржуазией. Неудивительно, что молодые нувориши не поддержали революции, а вот их изначальные противники иногда шли на помощь новому строю, признавали его и признавались в любви к нему.
Вряд ли это касалось родителей моей мамы. Они к отцу-то относились с большой долей снисхождения, хотя он дослужился до унтеров, но видимо, все еще недостаточно вырос в их глазах. Возможно, они сумели отговорить дочь сперва переждать начавшуюся войну, а потом, когда социализм победил еще раз – отказали в попытках выбраться окончательно. Так мне говорила бабушка, не факт, что она хоть что-то знала о маминых родных, но хотелось хоть как-то объяснить – и ее отъезд и невозвращение. И еще продвижение отряда отца во время гражданской. Несуразное, рваное, с фронта на фронт. Может, он тоже ее искал? Мне очень хотелось на это надеяться, особенно, по молодости, когда горячка отторжения мамы, возникшая не без влияния тети, сошла на нет, сменилась интересом, переросшим в почти болезненное влечение. Отец никогда не рассказывал о своих отношениях, да и оно понятно, что я мог понять в те годы, ведь фактически три последних стали борьбой за его жизнь.
Вот о борьбе он мне рассказывал и часто. Помню, пел, убаюкивая, военные песни, странно, наверное, но я успокаивался под них и под их кровавые истории, и засыпал как убитый. Он хотел вырастить из меня настоящего воина, а как же я должен продолжить династию. Жаль, не узнал о моей болезни, приобретенной во время первого голода, вскоре после окончания войны. Неурожаи, разруха, холера – все это наложилось толстым слоеным пирогом, придавившим многих. Тогда продукты выдавали по военным нормам, а работать приходилось даже больше, чем во времена налетов. Отец ушел из жизни за полгода до того, как норму снизили, тихо скончался в больничной постели. Наутро, когда мы с бабушкой пришли, нас не пустили в палату.
Как же он ненавидел подобную смерть, всячески боялся ее, пытался вырваться, как вырывался ранее – из боя, из плена. Я с восторгом слушал его рассказы об этом. А много позже, получив разрешение на архивные изыскания, проследил путь, ища на нем отметины, понятные мне одному. Кажется, находил их – еще бы, отца столько раз перебрасывали с места на место, мне казалось, даже в пылу битвы он ищет тоже, что и я. Ведь как иначе, как еще они могли встречаться и жениться, под недовольные попреки родичей с обеих сторон? Что это было, если не любовь? И зачем – когда не она?
Пусть не получал писем, не ведал, где она, что с ней, – но даже в бою пытался найти ответ. Или мне так казалось в юности и кажется ныне, оттого лишь, что я сам жажду скорейшей встречи? А знает ли мама о его смерти? Как помнит его, как отнесется к тому, что расскажу ей я об отце?
Но это уже другие вопросы. А тогда, копаясь среди засекреченных папок, я выискивал нужные мне листы и наносил их на карту тонкими карандашными линиями. Вот здесь, рассказывала мне бабушка, старое разоренное поместье семьи моей мамы, вот тут, в этом городе, у них ювелирная мастерская, где хозяйничал еще мамин дед. На юге и сейчас аристократия вкладывает капиталы и познания, не гнушаясь статусом, а чаще всего статусом и продвигая, свои товары или услуги. Наверное, после войны, маме тоже могли помочь, не дали остаться одной. Одно имя…
Нет, не хотелось думать. Возле разрушенной усадьбы полк отца стоял три недели – может, он искал свою возлюбленную? Может, может хоть что-то узнал о ней? Ведь иначе, почему ни мне, несмышленышу, ни матери, ни сестре – ни полслова. Бабушка много рассказывала о своем сыне, много чего, но история его подвигов не складывалась с потерей той, которая уехала в Беловодье сразу перед началом войны. Табу, разрушить которое мне не удалось.
А я надеялся, упирался, спорил и спрашивал, спрашивал…. Сам прекрасно понимая, что ответа не получу, бабушка прошла такую школу революции, что могла выдержать любые испытания, но не выдать главной, верно, своей тайны. Чтоб я не забивал, чем попало голову, она быстро привлекла меня к своим убеждениям, ее стараниями я стал тем, кем стал. Военного из меня не получилось, болезнь не дала, да и бабушка, внутренне сопротивляясь при отце, не позволила дальше получать иное, нежели пропагандист и агитатор, образование. Отец протестовал, они часто спорили, я это хорошо помню, но когда он снова лег в больницу…. Как чувствовал.
Еще странное я заметил, после его второго ранения. Да серьезного, но не настолько, чтоб не иметь возможности избегнуть коммисования и вернуться в действующую армию, а хотя бы и в штаб. Возможность у него такая имелась. Но нет, после ранения под Беловодьем, он будто сник. Сдался. Вернулся в тыл, стал готовить будущих пластунов и диверсантов – благо его бесценный опыт нуждался в скорейшей передаче. А потом осколки зашевелились, да и бронхит дал о себе знать. И пошла та война, о которой я поминал прежде – уже внутри него. Уходить и сдаваться он не хотел, пусть и был надломлен, пусть и нашел что-то, чего никак не хотел признавать – не хочется думать, что скверного он выискал там. Отец спорил, упирался и пытался доказать свое. Хотя бы поставив меня на ноги, ведь он был нужен семье, сыну, из которого должен получиться настоящий защитник.
– А вы все молчите и молчите, – произнес мужчина. Я спохватился. Мы прошагали изрядно, добравшись почти до самого конца парка, там повстречались с солдатами, охранявшими тот самый военный аэродром, куда должны были садиться самолеты с юга. Но за все время я, погруженный в себя, так и не произнес ни слова. Молча протянул документы, когда лейтенант попросил удостоверить личность и извинившись, повернул назад.
– Простите. Я сейчас плохой собеседник. Чем ближе ко времени встречи, тем больше думаю о ней.
– Прекрасно вас понимаю. Вы еще хорошо держитесь, в первый раз мой папа, уж на что человек крепкий, партизан, а едва приступ не получил, перед самой встречей с дедушкой. Столько всего пережилось, передумалось.
– Я даже не представляю, о чем у нее спросить, – зачем-то признался я, выдав самые потаенные мысли. Мужчина только плечами пожал.
– Да уж насчет этого не переживайте даже. Слова сами найдутся. А если и не найдутся, так вы же… да одна встреча все расставит по своим местам.
Не знаю, почему, но мне не то его тон, не то интонация, с которой он произнес эти слова, не понравились. Возможно, наложились на собственные думы, постоянно всплывавшие и не желавшие уходить. Те самые подростковые, вдолбленные тетей: о чуждости, о чужеродности даже, моей мамы и всего ее окружения нашей семье, строю, государству, всему.
Тетя… я уже много лет не общался с ней, мы разошлись, как я женился и едва ли не с той поры общение свелось, сперва к обмену праздничными поздравлениями, а затем дошло до глухого взаимного молчания – и уже не скажешь, кто первый не ответил пожеланиями на приветствие.
Не хотелось думать, что мама действительно бежала от войны, от семьи, от революции, от всего сразу, увидев, сколь неудачным получился брак, желая все переменить на юге, куда наши идеи и идеалы так и не добрались. Не хотелось верить, что она забыла обо всем, выйдя замуж и окружив себя любящими родными и близкими, мужем, детьми, приятелями и знакомыми как непробиваемой броней. Не хотелось, но мысли все равно не давали покоя.
– Все пройдет как даже и не думалось, без сучка, без задоринки. Уж поверьте, – произнес мой собеседник в ответ на молчание. Затем взглянул на часы, спохватился. – Вот мы с вами и загулялись же. Надо поторапливаться, а то поужинать не дадут.
Половина шестого, он прав. Мы поспешили к гостинице.
В огромной столовой столики накрывали на шестерых, так что к нам присоединились две пожилые дамы, кажется, сестры, и сын и дочь одной из них – обоим по виду лет двадцать. Официантки спешно стали разносить еду.
Моему соседу не понадобилось много времени, чтоб познакомиться с соседями по столу: едва подали рисовый салат с сухариками, он разговорился, и как-то естественно разговорил обеих дам. Я в разговор особо не вступал, хотя и принято это – говорить за общим столом, помогает пищеварению, как говорят врачи. Как-то естественным образом мужчина познакомил всю компанию и со мной тоже – почти ничего обо мне не зная, очень достойно отрекомендовал. Когда мы управились с ужином, одна из дам, та, что без детей, задержалась поговорить. И неожиданно спросила:
– Вы наверное, в курсе. Сейчас на юге приближаются выборы, националисты на подъеме, опять собираются взять большинство в тамошнем парламенте. Как думаете, будут провокации?
Я вздохнул. Жизнь юга для нас не менее важна, чем собственная, как ни крути. Не потому, что соседи, да и поэтому тоже, но за все прошедшие годы та сторона так и не поняла, что гражданская окончена, что страна разделена… ничего, кажется, не поняла. Потому, что левые, что правые, все жаждут присоединить север обратно. Левые обещают подачки, иногда их и посылают, воздушными шариками переправляя нам, то конфеты, то носки, а правые жаждут реванша, собирают средства на новую войну. Как это было во время правления их хунты. Тот короткий конфликт, случившийся после затопления нашего катера, удалось быстро заглушить, остудив горячие головы залпами гаубичных батарей и баллистическими ракетами по тылам. Хорошо правитель успел обо всем позаботиться, прекрасно понимая, насколько опасен и неугомонен юг. Бросил все силы на постройку укрепрайонов вдоль границы, народ голодал, а он закупал оружие и технику, с расчетом именно на такой случай. И не прогадал. Даже левые издания разных стран мира, обычно хвалившие мудрость руководителя страны тогда называли самыми последними словами. Но не мы. Конечно, затянули пояса так, как никогда прежде. Но оно того стоило. Снова выстояли. И еще раз не посрамим отечество – а как они думают, что нам еще остается делать?
Хотя, кажется, они не думают. Просто действуют, постоянно проверяя наши силу, готовность, решимость, отвагу.
– Не исключено, – согласился я. – Перед выборами правые партии на что угодно пойдут, лишь бы получить мандатов побольше.
– Их демократия, она такая. А как думаете, до войны, – голос дрогнул, – не дойдет?
Меня об этом спрашивали с самого детства, наверное. Еще бы, в школе я был политинформатором, с первого же класса. Потому уже, что бабушка, настояла, чтоб я занимался политпросветом, да и одно ее появление за моей спиной, предрешило мнение классной о кандидатуре пропагандиста в первом «Б». И тогда и сейчас я говорил одно и то же, обстоятельно, твердо защищая свою – и нашей партии и правительства – позицию. Мне верили, со мной соглашались даже самые боязливые и недоверчивые. Но сейчас у меня по спине прошелся неприятный холодок, вот только нынче не хватало устраивать политпросвещение, – как будто на нашем предприятии перед собраниями, когда сперва рассматривалась политическая обстановка на юге, а потом председатель исполкома плавно переходил к делам собственно фабрики и сообщал о процентовке, подрядах, амортизации и утруске. Не то, чтоб меня это коробило, но все же я считал свое дело важным достаточно, чтоб не стать вводной частью к общему заседанию.
– Не дойдет, если не верите на слово, вспомните о ядерном оружии, которым мы располагаем, в отличие от юга, – уверенно сообщил я, ровно тем же голосом, каким говорил об этом перед рабочими. И поймав себя на подобном, тут же сбавил тембр, заговорив чуть тише. – Точно не дойдет. И дело не в том, что наш вал Освобождения, построенный правителем, способен остановить любую орду а залпами дальнобойных орудий сравнять столицу южан с землей. И не в том, что южане разлимонились и стали бояться больших жертв и особенно лишений. Дело в другом, ни одна из их партий, сколько б ни говорила об «освобождении» севера от коммунизма, никогда не отважится начать кампанию. Разве что в прессе.
– Вы думаете? – как-то не очень уверенно произнесла женщина.
– Сами посудите. Ну, вдруг случится невозможное, и юг нас захватит. Нас шестьдесят миллионов человек. Всех надо кормить, обувать, одевать, обучать. У нас другие технологии, другая жизнь, все другое, даже держать нас в стойле и то для них будет стоить миллиарды в день. Никто не это не пойдет. Ни чтоб использовать в качестве самой низкой рабсилы, ни чтоб попытаться переобучить и встроить в их мир, как это пропагандируют леваки. Мы стали настолько разными, что всякая попытка сближения…
– Я думала, вы другое скажете, – пробормотала она, спешно отходя. Я резко замолчал, спохватился, сообразив, что за глупость морожу. Ведь я выдал то, что давно держал в мыслях, попробовав на первой встречной свою тираду, но нашел для этого максимально неудачный момент времени и места. Места встречи. Как будто специально разбередил рану.
Пошел, нашел эту женщину и все же объяснился.
– Но мы не настолько разные? – уточнила она, покусывая подрагивающие губы.
– Пятьдесят лет прошло, поколение сменилось, новое подходит. Да, мы разные, но у нас, именно у нас, есть еще шанс. Мы проще и нам проще принять их к себе, чем им взять нас на кормление. Их правители нас никогда не поймут, я не говорю о людях, да нам многие сочувствуют и внимают, но партии, вы же знаете, как на юге все далеко от простого народа. Какая там каста политиков из дворян и буржуазии, они же не допустят чужака…
Снова здоро́во. Меня понесло, говорил долго, раскладывая по полочкам, она внимала, хоть тут начав улыбаться. Кажется оттого только, что услышала знакомые фразы. Я понимал это, наверное, потому и не прерывался. Лишь потом, успокоив, откланялся, ушел в номер.
Меж тем, начали прибывать самолеты с половинками разъединенных семей с юга. Сквозь толстые стекла доносился едва слышный гул садящихся самолетов, мне сперва подумалось, сколько ж их согнали сюда, и ведь не жалко, потом я решил, что на двадцать минут лета от одного аэропорта до другого хватит и единственного большегрузного самолета. На юге таких много. И все равно – ведь не жалко же гонять, жечь топливо. А ведь у той половины страны нет месторождений нефти. В отличие от нас, юг всегда был провинциальным, крестьянским, это мы обладаем запасами и сокровищами, которые продаем, когда открыто, когда тишком, половине мира. И все равно нефти не хватает даже для керосина в страду. Для частых полетов легкомоторной авиации над колхозными полями, опрыскать, чтоб те не страдали от проклятой саранчи. Да для нужд селян и горожан. Пусть он стоит гроши, но его ведь днем с огнем не сыщешь. А южане закупают нефть с другой половины мира и, тем не менее, каждый второй у них владелец собственного авто. А ведь с давних пор юг отставал по всем характеристикам, кроме сельского хозяйства, главного источника доходов аристократии, поднявшейся поначалу именно там, а не на технологически процветающем севере, где рост городов, производств и отношений, привели к появлению пролетариата, который смог сорвать оковы, освободиться от пут и прогнать ненавистных поработителей.
А потом учиться возделывать неплодородную землю, перерабатывать все то, что при царях уходило на экспорт, строить новые отношения и жить в осажденной крепости – уже больше пятидесяти лет. Это южанам помогали все, кому не лень. Ведущие капстраны, сумевшие отстоять часть территории страны, теперь делили ее, как хотели, а транснациональные корпорации заставляли людей работать на износ или больше, а когда они кончались или пытались возмущаться, просто брали штрейкбрехеров. Быстро росли города, множились предприятия, аграрный юг очень стал высокотехнологичной страной, чью продукцию скупали на корню в самых развитых государствах. Еще бы, ведь она столь дешева.
– Вы так у окна и сидите. Волнуетесь? – спросил вошедший мужчина. Я кивнул, затем пожал плечами.
– Нет, не очень. Много мыслей в голове.
– О предстоящем? Да, я вас понимаю.
– Не только. Я как-то с нашей компаньонкой по столу нехорошо обошелся.
– А вы о войне? Забудьте, не знаю, откуда она приехала, из глухой деревни, как будто, но странно такие вопросы задавать сейчас. Вроде бы напряженность спала, да и…
– Выборы на юге, вот она и волнуется. А я, зря я ей так в лоб.
Мужчина помялся.
– Вы неправы. Вернее, я хотел сказать, что неправы, когда говорили о нас в таком ключе. Простите, что так, но как будто изверились.
– Нет, не изверился, – резко ответил я. Мужчина попытался возразить, мол, это только его предположения, но я не слушал, я говорил сам с собой. —Я по-прежнему не сомневаюсь в торжестве социализма, больше того, я вижу, что грядет день, и, как верно заметил наш председатель, капстраны сами сожрут себя. Мне кажется, могильщики этой системы уже правят – безумно, безграмотно, подталкивая и себя, и государства в небытие.
– Вот сейчас? – удивился мой собеседник.
– Именно. Не знаю, сколько процесс развала такой мощной и стойкой системы продлится, но ее конец неизбежен, тут я не сомневаюсь. Останутся только те, кто думает о народе, кто верит в светлое будущее, кто…
– То есть, мы.
– Не перебивайте. Социализм придет всюду, рано или поздно. Не знаю, доживем ли мы, сейчас мы наблюдаем лишь зарницы этого зарева, да и то неясные, – наверное, плохо сказал, но я говорил, глотая даже не слова, фразы, спеша объяснить свое видение. Не собеседнику, себе. А потому будто изрекал наброски будущей речи. – Дело в другом, я боюсь, что наша страна может не дожить до этого удивительного дня. Может всякое приключиться в последующие годы. Больше всего боюсь, что мы останемся одни. Сами посудите, после развала социализма, когда народы всего мира перестали надеяться, наверное, изверились и устремились в общество потребления и сиюминутных благ, – сколько тогда государств осталось, лидеры которых не прогнулись под натиском охватившего мир безумия? Всего ничего, на пальцах руки пьяного фрезеровщика пересчитать, – мужчина хмыкнул шутке, но сдержался, ничего не сказав. – Именно что. А теперь почитайте доктрину развития нашего соседа, да что я, вот она, на полке стоит, вместе с учениями классиков. Что они прогнозируют в будущие пятилетки? Волосы шевелятся от прочтения. Развитие крупных корпораций с зарубежным капиталом, разгосударствление предприятий, частную собственность на землю и индивидуальную трудовую деятельность для всех.
Я перевел дыхание. Мужчина смотрел, не отрываясь, наконец, произнес одну только фразу:
– Я не представлял даже.
– Хотя там и были. А они давно предают и себя и нас, они… – снова закашлялся. – Если мы останемся одни, вернее, когда, мы не выдержим.
– Но почему?
– Да все просто. Блага и нас сожрут. Желания сиюминутные, страх перед завтрашним днем, неверие и страх. Как на юге. Мы же все время на них смотрим, мы всему у них набираемся, нет, не говорите, что не так. Посмотрите на себя. Уж простите за эти слова, но ведь вам этот костюм очень нравится, – он кивнул. – Настоящий хлопок, наверное.
– Вискоза, сто процентов.
– Неважно. У нас нет ни хлопка, ни льна, а вся вискоза идет, видимо, на экспорт. Ни разу не видел в продаже таких товаров. Хотя какая продажа, сейчас даже куска тряпки не купить.
– Так временные трудности…
– Они у нас постоянно, как соцлагерь рухнул, так и живем. Мы при них все время живем, а вот когда становится совсем туго, партия называет это трудностями. У нас огромные богатства, а мы их тратим на экспорт.
– Так блокада же.
– Мы не умеем их перерабатывать. Да что говорить, мы даже автомобили и те закупаем у соседа. То ли сказать о тряпках или еде. Можно сказать, не научились выращивать, но с другой стороны, мы же индустриальный север, мы сами раньше – до революции – были технологически развитым регионом, много чего производили, ничего не покупая. Забыли? А сейчас даже обычная вещица, вот этот хорошо пошитый костюм вызывает в вас удивительные, непривычные чувства комфорта. У нас так не делают. Не умеют. Разучились.
– Ну знаете. Я на такие темы говорить не подписывался. Уж простите.
Он поднялся с места одним движением и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Я остался один, но мысли остановить не смог и в отсутствие собеседника продолжал излагать их – уже непосредственно к себе и обращаясь.
Прежде, до революции, мы производили товаров во множестве, те же автомобили, танки, пушки, тягачи, даже самолеты – все умели и все могли. А теперь только закупаем. Как будто железная руда, вольфрам, никель или еще что – внезапно кончилось. И жалуемся по привычке, что еще не научились как следует обрабатывать землю, все трудности происходят только и исключительно отсюда.
И это ложь. Наша революция вдохновила соцстраны, все соседи по лагерю, дальние и ближние почти сразу пришли нам на помощь. Я мыслил прежде о юге, но ведь и нам помогали не меньше, а может, и больше, чем ему. И к нам приезжали профессионалы любого дела, учить молодых революционеров тяготам строительства развитого социализма, разбираться в экономике, финансах, политике, да во всем. Налаживали производства, строили предприятия, восстанавливали гидроэлектростанции, а нет, это уже после войны, но неважно, все равно помогали сперва обустроить страну, а затем возродить ее из пепла ковровых бомбардировок. Больше того, приезжали не только специалисты, инженеры и техники, даже агрономы, даже трактористы и те ехали помогать. И ведь вроде учились, вроде ухватывали мысль, вроде воплощали ее в дело. А как все рухнуло, вдруг оказалось, что у нас нет ничего и никого. Что неправильно вышло? В чем ошибка? Где корень проблем?
Даже автобус, который довез нас до гостиницы, и тот построен неведомо когда нашим соседом. Даже гостиница и та… а у нас нет собственных самолетов, поездов, ракет, нет, ракеты у нас есть, ядерное оружие и… и вот эти трактаты на полках каждого номера каждого отеля или пансионата в стране. Точно вся древесина уходит на них, а не на костюмы.
Ведь прекрасная же идея, светлая, неоспоримая…. Так что же мы не можем жить с ней в ладу? Нас тянет в будущее, а руки жаждут заграбастать чужеземный костюмчик, будто в нем средоточие всех благ всего мира. Я остановился, сам не заметив, как кружу по маленькому номеру. Обидно, очень обидно. Особенно перед теми, кто приезжает сюда. Верно, подсознательно ощущая это, администрация выложила на полки туалетных столиков весь дефицит, накопленный под полой, поставила телевизоры и даже холодильники, – роскошь, многим, вот хоть нашей семье, пока еще недоступная. И туалетная бумага, вроде мелочь, но поди ее найди. А ведь сколько пионеры макулатуры сдают, сколько деревьев берегут в год – и не сосчитать. Книги на хорошей бумаги печатают…
Вздохнув, пошел мириться с соседом. А он будто и не слышал моих слов, произнес пару фраз о теплой погоде и предстоящем хорошем дне и, пожелав мне приятной ночи, лег в постель. Немного посидев возле окна, я последовал его примеру. Самолеты все прибывали, казалось, весь юг скоро окажется здесь.
Я принял снотворное, наутро проснулся с дурной головой, но свежим и выспавшимся. Мысли не тревожили, их напрочь прогнал барбитурат, я даже удивился ясности, внезапно воцарившейся в голове. Скорее пустоте, поселившейся там. Встал, умылся, побрился, и вспомнил о своих мыслях, лишь когда к нам пришла комендант и попросила приготовиться и собраться, а мне велела идти вниз, заполнить бумаги.
Вот тут я снова вздрогнул, обернулся, как-то беспомощно, к своему соседу, он улыбнулся и кивнул в ответ, и поплелся за представительной женщиной, ведшей меня в небольшую комнатку, в которой уже ожидали еще около дюжины новичков, а так же инструктор, последний раз повторивший все то, о чем я так хорошо помнил. Затем мы подписали бумаги, регламентирующие нашу встречу, и только после этого я снова начал думать о маме. Волнение прошибло стену, возвещенную снотворным, я заволновался, но принимать успокоительное сейчас не стал. Наконец, нас отпустили на завтрак.