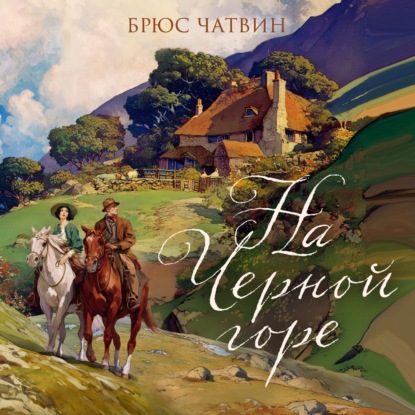Полная версия
Земли обетованные
Тогда он извлек оттуда прозрачный пластиковый пакетик, в котором лежал клевер-четырехлистник[20], и показал его мне:
– Смотри: это мой талисман, я ношу его с собой уже двадцать пять лет, со времен концлагеря. В первый день там стоял такой мороз, что никто не решился высунуть нос из барака, и только я один вышел, разделся до пояса и стал мыться под краном; вода была ледяная, но я себя пересилил. Потом стал вытираться, случайно глянул вниз и увидел этот клевер. Просто невероятно – он словно поджидал меня там; казалось, это судьба мне дружески подмигнула, дала знак, что побережет меня, что нельзя отчаиваться, что я когда-нибудь вернусь в Париж, а пока нужно бороться с унынием и жестоким обращением. Я подобрал этот четырехлистник и бережно уложил в бумажник; ребята все, как один, мечтали иметь такой же, искали вокруг умывальника и на остальной территории лагеря, но так и не нашли. Этот клевер оберегал меня всю войну – я выжил, вернулся к твоей матери, и что бы она там ни говорила, а жизнь у нас была хорошая. Так вот: сегодня я передаю его тебе – теперь ты в нем нуждаешься больше, чем я.
И он протянул мне пакетик.
– Благодаря ему ты успешно сдашь экзамен.
– Ты и вправду в это веришь?
– Послушай меня, парень: удача так просто не приходит, ее нужно слегка подтолкнуть, и в нее нужно поверить. Вот подумай сам: отчего одни люди удачливы, а другие нет?
Я взял у него прозрачный пакетик, сунул его в свой кошелек и внезапно почувствовал глубокую убежденность в том, что этот талисман непременно поможет мне разыскать Сесиль. Верить недостаточно, нужно ещехотеть верить.
* * *Луиза жила в крошечной темной двухкомнатной квартирке окнами во двор, на третьем этаже ветхого дома по улице Амло, напротив Зимнего цирка[21]. Временами из цирка доносилось рычание или мычание зверей, запахи хищников или конюшни, так что в сумерках чудилось, будто ты оказался где-нибудь на краю света. Именно сюда Луиза затащила меня в первый же вечер, не заботясь о том, «что скажут люди»; именно здесь, в ее тесной спаленке, на ее узкой кровати, она научила меня тому, чего я не знал, тому, что любовь может быть праздником, что мы способны открыть для себя этот рай на двоих. У нее был нежный голос и какие-то странно сияющие глаза, она нашептывала незнакомые слова, увлекая в свое царство; она заснула, обнимая меня, а я совсем потерял голову в ее объятиях.
Солнце просвечивало сквозь занавески; я не сразу осознал, где нахожусь. Луиза лежала с приоткрытым ртом и улыбалась, не поднимая век, ее плечо было белым и шелковистым, она повернулась к стене, и я, кажется, задремал.
А когда открыл глаза, ее уже не было рядом, мои часы показывали час дня, а Луиза варила кофе в кухоньке, рядом со спальней. Увидев меня, она замерла и прошептала: «Добрый день!» Мы молча позавтракали; она накинула белую нейлоновую рубашку, слишком просторную для нее. Потом, поколебавшись, спросила:
– Ты читать любишь?
– Да, очень. А тебе какая книга понравилась из тех, что ты недавно читала?
– Я ни одной книжки пока не прочитала – во всяком случае, целиком. У нас дома книг не читали, только газеты, да и то от случая к случаю, вот радио – его слушали. А если бы я захотела читать книжки, то с какой бы мне начать?
– Ну… трудно сказать.
– А та девушка, которую ты ждал, – Сесиль, что ли, – это твоя подружка?
– Нет, она была подругой моего брата, но у них там много чего случилось.
– А у тебя нет подружки?
– Была одна, но ей пришлось уехать вместе с родственниками в Израиль. В общем, это длинная история.
Луиза устроила мне форменный допрос по поводу Франка и Сесиль, потом потребовала, чтобы я подробно рассказал о Камилле, но я отвечал уклончиво. Она села ко мне на колени, поцеловала и потащила обратно в постель, и мы уже почти разделись, как вдруг кто-то позвонил в дверь.
– Господи, кто еще там пожаловал? – спросила она, торопливо застегивая рубашку. И пошла открывать. – Джимми! Вот молодец, что зашел!
Я едва успел одеться. Джимми выглядел немногим старше Луизы; он был одет в светлую замшевую куртку, белую майку, джинсы и – что меня удивило – носил кожаные перчатки, которые так и не снял; на глаза ему падала волнистая прядь, которую он небрежно откидывал назад, а из уголка рта свисала незажженная американская сигарета. Луиза познакомила нас, но он едва удостоил меня взглядом.
– Я собиралась сварить еще кофе, – сказала Луиза, – ты будешь?
Она поставила на огонь кофейник, вынула чистую чашку. Я протянул Джимми спичечный коробок, но он мотнул головой:
– Не надо, я бросаю курить – из-за голоса.
Луиза разлила кофе по чашкам.
– Я встретил Жанно сегодня утром, – сказал Джимми. – Он согласен продать свой мотоцикл.
– Потрясно! – воскликнула Луиза. – Сколько он за него хочет?
– Ну, в том виде, в каком он сейчас, дорого Жанно не запросит.
– Ты ему сказал, что я получу права через три недели?
– Лучше ты сама с ним договаривайся.
– Это приятель, у которого есть «Роял-Энфилд 350»[22], – объяснила мне Луиза, дуя на дымящийся кофе. – Но он во что-то там врезался, повредил вилку переднего колеса, а чинить не хочет, хотя это сущие пустяки. Если он запросит подходящую цену, я его куплю.
Бросив недопитый кофе, Луиза схватила куртку и направилась к двери, а мы за ней. Внизу Джимми потер руки в перчатках, взялся за руль своего мотоцикла – «Пежо-356» стального цвета – и аккуратно вывел его с тротуара на мостовую; Луиза села сзади, он в два приема запустил мотор, она крепко обняла его за талию, они помчались в сторону бульвара Бомарше, и я вскоре потерял их из виду.
Как ни странно, я не обиделся на Луизу за то, что она меня вот так бросила, да и на Джимми тоже. Тогда я еще не знал, что нам предстоит вместе пережить странную историю, а если бы предвидел, чем она закончится, то, наверно, не пытался бы опять встретиться с Луизой; в общем, назавтра я снова пришел в «Кадран» на площади Бастилии, хотя уже не очень-то понимал, что мне там нужно – найти Сесиль или снова повидать Луизу. Наверно, и то и другое. Но Луизу я в кафе не застал, у нее был выходной. Я расположился за тем же столиком, что и вчера, вынул латинскую грамматику и, находясь в бодром расположении духа, взялся за отложительные глаголы.
При этом я регулярно отрывался от учебника в слабой надежде увидеть на улице Сесиль.
Два часа спустя отложительные глаголы были побеждены.
В общем, день прошел мирно, если не считать короткого набега в область соотносительных наречий; правда, их окончательное покорение я отложил до лучших времен. Я довольно быстро приобрел статус завсегдатая кафе, однако мои расспросы по поводу Сесиль с показом ее фотографий не дали никаких результатов. Да и успехи в латыни были мизерными, зато я уже прилично освоил пинбол: даже выигрывал бесплатные партии и завел новых приятелей.
Asinus asinum fricat[23].
В конце дня я наведался к Луизе домой, но никого не застал. Однако, выйдя из подъезда, я увидел Джимми, который причалил к тротуару и остановился, не выключая мотор.
– Ты видел Луизу? – спросил он, дергая за перчатки, но не снимая их.
– Я звонил в дверь, но ее нет дома.
Наверно, по моему лицу Джимми понял, что я не вру; он расслабился, опустил руки и вздохнул.
– Это тебя прозвали Монсеньором? Тут Клод и Рене рассказывали мне про дружка Луизы, который убойно играет в настольный футбол, зубрит латынь и похож на кюре, – это ты и есть?
– Я не похож на кюре!
– Так ты Луизин дружок или нет?
Он выглядел таким убитым, что я предпочел промолчать и предложил ему выпить кофе; он кивнул, аккуратно поставил свой мотоцикл на тротуар, и мы с ним расположились на террасе бистро с видом на бульвар. У Джимми была одна общая с Луизой черта характера: он охотно рассказывал про свои жизненные проблемы.
И его главной жизненной проблемой была как раз Луиза.
Они родились в одном квартале предместья Труа, выросли в тени трикотажных фабрик, и, что бы Луиза ни говорила сегодня, работа была там не такой уж каторжной. Их дома стояли рядышком. И Луиза, сколько он себя помнил, занимала главное место в его жизни, гоняла на велике вместе с парнями постарше и была единственной девчонкой в их компании; ей позволялось играть с ними в футбол, она выбирала себе то одну, то другую команду, смотря по настроению, и гордилась тем, что целовалась с ними со всеми, притом что все как один ее уважали. Джимми был ее первой любовью, и считалось, что они рано или поздно поженятся и заживут точно так же, как их сестры и братья, но Луиза по каким-то причинам – он так и не понял почему – категорически не желала заводить семью, да и характер у нее был вздорный, вечно она ворчала и ругалась со всеми подряд. После одной особенно жестокой ссоры с отцом, эхо которой разнеслось по всему предместью, она решила покинуть Труа. Джимми согласился следовать за ней, иначе она грозилась уехать без него. В Париже они сразу же нашли работу – он на Центральном рынке, она в кафе, официанткой, сняли квартирку в Жуэнвиле и зажили, как в раю. Но у Луизы были какие-то странные представления о независимости, точно у парня, только она была еще строптивей. Два года назад она вдруг связалась с одним греком и уехала с ним на две недели в Салоники, потом вернулась как ни в чем не бывало и поселилась в нынешней квартире на улице Амло; они снова были вместе, но теперь каждый из них жил, как хотел.
– Вот ты у нас ученый, так скажи мне, что ты об этом думаешь?
– Не знаю… сложно все это.
* * *Сесиль понятия не имела, где разыскивать Франка. Может, на юге? Или на востоке? Желание все бросить и ехать на поиски то и дело захлестывало ее днем, будило по ночам, мешало спокойно спать. На уроках она иногда прерывала объяснения, застывала у доски с мелом в руке и внезапно выходила из класса. Правда, всего на несколько секунд.
Ученики покорно сносили это: мрачный взгляд Сесиль пугал их, и они старались не злить ее. Если бы они знали, какая паника одолевает их учительницу, какой ужас леденит ее сердце, устроили бы ей «веселую» жизнь. Но непроницаемое лицо Сесиль не выдавало ее чувств.
Сесиль любила тишину, которая воцарялась в классе, когда она туда входила. В тот день она положила на стол свой ранец, повесила плащ на крючок за дверью, обвела взглядом учеников и перед тем, как заговорить, выдержала короткую паузу:
– Садитесь. Если помните, я вас предупреждала, что сегодня вы будете письменно отвечать на вопросы по «Ифигении» Расина[24]. Приготовьте тетради.
В классе стояла тишина – ни шепотков, ни замечаний. Сесиль написала на доске вопросы:
1) Кто является истинным героем «Ифигении»?
2) Как вы понимаете слова «поклонение богам»?
И она обернулась к классу:
– Имеется в виду: как это можно рассматривать в наше время?
И написала последний вопрос:
3) Убедительны ли причины, выдвинутые Агамемноном?
– В вашем распоряжении сорок минут. Разумеется, вы должны подробно обосновать свои ответы. Меня интересует не повторение курса, а ваше личное мнение.
Расин, как и Арагон, был ее любимым автором – его пьесы идеально укладывались в бурные события современности, и она особенно выделяла «Ифигению». Ее восхищала эта девушка, которая с такой готовностью жертвовала собою ради счастья ахейцев. Сесиль удалось передать эту любовь своим ученикам. На ее уроках царила мертвая тишина, и ей никогда не приходилось повышать голос: дети усердно записывали ее слова, склонившись над тетрадями. В своем следующем курсе литературы она собиралась рассказать им о Брисеиде[25], чтобы сравнить ее самопожертвование с таким же поступком Ифигении. Сесиль часто спрашивала себя: почему ни один классический автор не отразил историю сложной – и гораздо более современной – любви Ахилла и Брисеиды?
И какой была бы любовь без самопожертвования?
Сесиль всегда заканчивала рассказ перед самым звонком. Ей даже не требовалось смотреть на часы, она укладывалась минута в минуту. Дав задание к следующему уроку, она спрашивала: «Вопросы есть?» И ждала три секунды. Вопросов никогда не было. И тут раздавался звонок. Сесиль складывала свои бумаги и шла в другой класс, где давала ученикам другие темы. В учительской она встречалась с коллегами и молча, кивком, здоровалась. Преподаватели считали ее в лучшем случае рассеянной, а в худшем – высокомерной. Среди них был Бернар, учитель физики и химии[26]. Классный препод – так о нем говорили дети. Он часто делился с ней своими соображениями о педагогике, о пользе практических работ или обеспокоенностью по поводу учеников, живущих в неблагополучных семьях. Ратовал за скорейшее упразднение Лагарда и Мишара[27]. Словом, болтал обо всем на свете, лишь бы заполнить паузы; а ей было плевать на его разговоры. В прошлом году она имела глупость принять приглашение Бернара выпить с ним кофе. Это был ее первый день работы в школе. И только позже она поняла, почему он привлек ее внимание: Бернар чем-то напоминал Франка. Слегка. Разумеется, только внешне. И теперь, за отсутствием реального Франка, у нее имелся его двойник; он помогал ей представлять, какой была бы их жизнь с Франком, если бы… Бернар вовсе не вызывал у нее отвращения. По субботам он приглашал ее поужинать с ним, по воскресеньям – погулять в лесу, на неделе – сходить в кино. Он умело вел дискуссии, читал биографии великих людей и эссе, пел басовые партии в джазовом ансамбле, выступал в ДКМ[28] и в церквях, был полон энергии, собирался купить «Рено-4» и поехать с ней куда-нибудь на каникулы. У него были симпатичные приятели – группа преподавателей из лицея Ренси; они ходили друг к другу в гости. И Сесиль подумала: «А может, это он? Не оставаться же мне старой девой, я вовсе не обязана изображать мученицу». Бернар стал для нее надеждой – увы, бесплодной. Чистейшая иллюзия, моя дорогая! Сесиль не следовало сравнивать Бернара с Франком, его нужно было принимать таким, как есть, иначе говоря, вовсе не плохим. Но тут она вспоминала о Франке, о его пылкой страсти. После него все другое становилось невозможным, выглядело жалким эрзацем любви. Сесиль понадобился целый год, чтобы понять: в ее жизни нет места двоим мужчинам. И Бернар… господи, хоть бы он больше молчал, по крайней мере!
Единственным местом, где Сесиль расслаблялась, было Шароннское кладбище[29]; только здесь, пройдя за его решетчатую ограду, она чувствовала облегчение, забывала о жизненных тяготах. Она ездила туда каждый день. Ну, почти каждый. Даже если шел дождь или снег. Ее утешало это мирное место – здесь ей казалось, что Париж где-то далеко. Получив извещение о гибели брата, Сесиль несколько месяцев прожила в Страсбурге, у своего дяди с материнской стороны, единственного оставшегося у нее родственника; она могла бы поселиться там навсегда, но тогда была бы далеко от Пьера, и вернулась, чтобы он не чувствовал себя забытым на этом кладбище. Где они теперь – его бесчисленные приятели, где подружки, которые висли у него на шее? Пьер, роковой покоритель сердец, с его «сатанинским» смехом, мечтавший гильотинировать всех буржуа, кюре и банкиров, не признававший триединства брака, закона и наживы; Пьер, такой живой даже под этим могильным камнем; брат, которого ей так не хватало, который дал убить себя в Алжире всего за четыре дня до прекращения огня; солдат, наспех погребенный на военном участке кладбища…
Кто теперь помнил о нем? Сесиль клала на его могилу букетик анемонов, присаживалась на соседнюю плиту, закрывала глаза. И к ней возвращались воспоминания о былых счастливых днях. Пьер и Франк, неразлучные друзья. И она между ними. Все исчезло, она осталась в одиночестве. С призраками ушедших. Сесиль думала: «Почему я не умерла вместе с ними?» Она больше никого не впускала в свою жизнь. Даже Анну – меньше всего Анну. Свою маленькую дочку, которая ничего не говорила; которая, наверно, спрашивала себя, что же она такого сделала, раз никто ее не любит; которая давно поняла, что мать не хочет ее слышать. И поэтому девочка молчала. Но не спускала с матери глаз.
* * *Над городом нависли грузные, мутно-серые облака; холод внезапно вернулся в этот мартовский месяц 1962 года, и все улицы заволок тоскливый полумрак. Жеральдина плакала, но это было незаметно, потому что лил дождь. Никто не обращал внимания на невзрачную молодую женщину со светлыми волосами, стянутыми в хвост под резинку; она медленно шла по улице, откинув голову, не обращая внимания на ливень. Каждый шаг при грузном животе беременной женщины стоил ей неимоверных усилий. Она направлялась в начало улицы Гобелен, толкая перед собой новенькую детскую коляску – пустую, в еще не снятой прозрачной целлофановой упаковке. Остановившись у магазина хозтоваров, она купила бутылку уайт-спирита и сунула ее в сетку под коляской. Продавщица задержала взгляд на женщине и спросила, не нужно ли ей чем-нибудь помочь, но Жеральдина мотнула головой и пошла дальше. Она прерывисто дышала, ее лицо осунулось; вытерев лоб рукавом, она одернула свой слишком короткий плащ, подняла воротник, нерешительно помедлила у перекрестка и свернула к площади Италии. Она шагала как сомнамбула, не обращая внимания на ярко освещенные витрины магазинов, на афиши кинотеатров, и только время от времени приостанавливалась, чтобы перевести дух. Потом перешла проспект Сен-Мишель на красный свет, не обращая внимания на машины, тормозившие, чтобы ее пропустить.
Когда Жеральдина вошла в сквер на авеню Шуази, где мальчишки играли в футбол, бегая по лужам, дождь уже прекратился. Она села на мокрую скамью и застыла, позабыв о времени и упершись взглядом в коляску; редкие женщины, пробегавшие мимо, не обращали на нее внимания, они спешили домой. Так Жеральдина просидела, не двигаясь, сорок восемь минут, успев вспомнить все, ну или почти все, потому что вспомнить все было невозможно. Она уже не владела собой, плакала, всхлипывала, отдавалась своему горю – единственной реальной вещи на этой земле, за которую еще могла как-то держаться. Открыв сумку из дешевой искусственной кожи, она вынула блокнот на спиральке, шариковую ручку, что-то яростно писала несколько минут, потом вырвала исписанный листок, сунула его в бумажник, а блокнот швырнула в коляску. Нагнувшись, достала бутылку с уайт-спиритом, отвинтила крышечку и облила коляску внутри и снаружи. Потом лихорадочно пошарила в сумке, нашла спичечный коробок, зажгла спичку и бросила ее в коляску, которая тут же вспыхнула. Яркое оранжевое пламя озарило бледное искаженное лицо Жеральдины; она встала и ушла, не оглянувшись.
* * *Я редко видел отца и Мари – они работали как каторжные, вставали, пока я спал, приходили домой поздно вечером, поужинав где-то в городе, и мы общались в основном записками, оставляя их на кухонном столе. Чтобы хоть как-то помочь, я взял на себя закупку продуктов.
Судя по обрывкам разговоров, долетавшим до меня по мере продвижения их проекта, дело оказалось не просто сложным, а крайне сложным; они посвящали все свое время разрешению множества коварных административных проблем, трудновыполнимых технических задач и разработке нового принципа торговли, как неопределенного, так и рискованного. А поскольку они никогда еще не занимались созданием такого грандиозного предприятия, то постоянно совершали ошибки, двигались вслепую, на ходу корректировали или изобретали правила своей новой профессии, но все-таки мало-помалу начинали видеть свет в конце туннеля и планировали открыть магазин в начале ноября.
Как-то раз в воскресенье вечером они вернулись до того измученные, что Мари чуть не заснула в ванне, а отец без сил рухнул в кресло. Мари предложила пойти куда-нибудь и как следует поужинать, но был конец августа, многие рестораны закрылись, и мы с трудом нашли только один действующий, напротив Политехнической школы. Меня позабавил этот знак судьбы, которая привела нас в место, где я встретился с Франком, когда он дезертировал. Отец намекнул Мари, что у моего брата были проблемы, не уточнив, какие именно, и мы с ней начали дружно уговаривать его все рассказать; он долго упирался, заставляя просить себя, но все-таки заговорил:
– Франк всегда был безупречно честным человеком, идеалистом, мечтавшим создать лучший мир и помочь всем обездоленным. Его не интересовали деньги и успех; однажды я спросил его, что он собирается сделать в жизни, и он ответил: революцию. Когда он получил свой диплом по экономике, я надеялся, что он наконец образумится, найдет хорошую работу и прекрасно заживет, но он объявил, что изучал экономику лишь для того, что изменить мир. В детстве он любил играть в рыцаря Баярда[30] – всегда защищал слабых перед преподавателями, даже перед полицейскими, если те допускали какую-то несправедливость, притом спокойно, но твердо, ни в чем не уступая; он был прирожденным покровителем обиженных, пламенным и упорным.
В концлагере у меня было двое таких же принципиальных друзей, и обоих убили, как собак; я рассказал Франку эту историю, и знаете, что он мне ответил? Что они были правы, ведь они погибли за свои убеждения. Я твердил ему: перестань бороться за других, они сами и пальцем не шевельнут, чтобы защитить тебя. Я надеялся, что, когда он возмужает, эта дурь у него пройдет и он станет либо судьей, либо полицейским, но он стал коммунистом, и разубеждать его было бесполезно, он твердо стоял на своем и, как только ему исполнился двадцать один год, даже не стал дожидаться официального призыва, а пошел в армию добровольцем, чтобы уехать в Алжир. Он был не из тех, кто сглаживает углы, – делил мир только на черное и белое. У его матери точно такой же характер, только убеждения у них диаметрально противоположные, так что взрыв был неизбежен.
Но тут я его прервал:
– Когда он вернулся в Париж, ты же ему помог, дал денег, но мама устроила жуткий скандал, а потом он исчез. Так куда же он делся? Теперь-то ты можешь мне сказать!
– У Франка было много приятелей, но ни один из них не захотел ему помочь. Я обратился к своему знакомому технику, которому полностью доверял, и он нашел нужное решение: Франк должен был уехать в Роттердам и наняться на немецкий сухогруз, который доставлял сельскохозяйственное оборудование в Каракас и Аргентину. Я сам отвез его на машине в Голландию. И с тех пор ничего о нем не знаю. Когда мы с ним туда ехали, он с восторгом говорил о Кубе, и меня ничуть не удивило бы, если бы он оказался именно там.
– Рано или поздно война в Алжире кончится, – сказала Мари. – Все говорят, что тогда дезертирам объявят амнистию и он сможет вернуться.
– Проблема не в том, что Франк дезертир, – объяснил отец, – а в его безумном поступке: он убил офицера при неясных обстоятельствах; я узнал это от человека, имевшего допуск к досье, и, судя по всему, дело очень скверное. Так что Франку амнистия не светит.
– А та история, которую он рассказал Сесиль, – спросил я, – ну, про беременную алжирку, – это правда?
– Откуда я знаю? Он мог выдумать что угодно.
– Но ведь они с Сесиль договорились бежать вместе, а Франк уехал, не предупредив ее; так он все же нашел ту алжирку или нет?
– Он должен был забрать Сесиль на Порт-де-Пантен, но в последний момент передумал, ничем это не объяснив.
Мы долго сидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Потом я сказал:
– Ты должен был отдать этот клевер Франку, он нуждался в нем больше, чем я.
– Отдать ему… Да я бы рад, но, знаешь, счастливый клевер-четырехлистник – и марксизм… Я же тебе говорил: удача приходит лишь к тем, кто в нее верит.
* * *В том марте 1962 года Сесиль должна была встретиться с Франком около полудня в бистро на Пантенской площади, чтобы уехать вместе с ним на машине в Роттердам; там они собирались сесть на сухогруз, идущий в Венесуэлу. Сесиль без малейших колебаний расставалась с парижской жизнью, решив последовать за беглецом, которого разыскивала французская полиция; она была готова к трудной жизни, полной превратностей, но позволявшей ей осуществить свою мечту. Шло время, а девушка все ждала Франка, сидя в кафе и высматривая его в окно; она боролась с подступавшим отчаянием, отказываясь поверить в очевидное. Потом вышла и поехала на конспиративную квартиру в Кашане[31], где скрывался Франк, но его не было и там, он бесследно исчез. Напрасно Сесиль надеялась, что от счастья ее отделяют какие-нибудь несколько мгновений, а за ними последует долгая жизнь, полная блаженства. Жизнь с тем единственным человеком, который завладел всеми ее мыслями, которого она любила до безумия.
Франк рванулся вперед, чтобы успеть проскочить в открывшуюся дверцу турникета на станции «Корвизар» до того, как она захлопнется. Если бы он не спешил встретиться с Сесиль, если бы шел спокойно, металлическая створка задержала бы его. Два дня спустя Мишель передал девушке прощальное письмо Франка – тот сообщал ей, что уезжает один, расстается с ней, чтобы встретиться со своей алжирской подругой, которая ждет ребенка. У Сесиль остановилось сердце, подкосились ноги, она едва не потеряла сознание. Позже она думала: «Жаль, что я не умерла в тот момент». Но могла ли она знать, что на самом деле ее судьбу перевернуло невероятное, ужасное происшествие, задевшее ее рикошетом, – просто ей было не суждено избежать его: бывают такие роковые случайности, которые обрекают невинных на адские муки. Франк не лгал Сесиль, он был ей предан и, назначая встречу, готовился бежать вместе с ней. Он выехал из Кашана в девять утра и прошел пешком до метро «Площадь Италии», чтобы в одиннадцать часов встретиться на станции «Вольтер» с отцом, который должен был отвезти их обоих в Голландию.