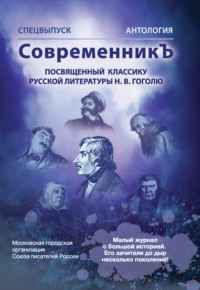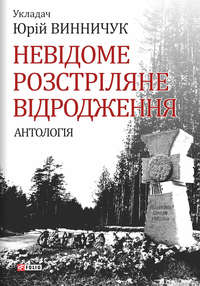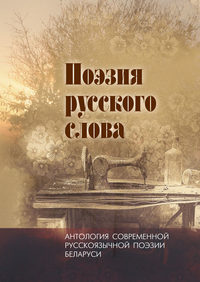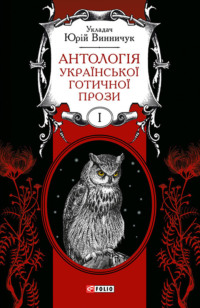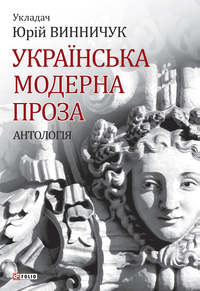Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.
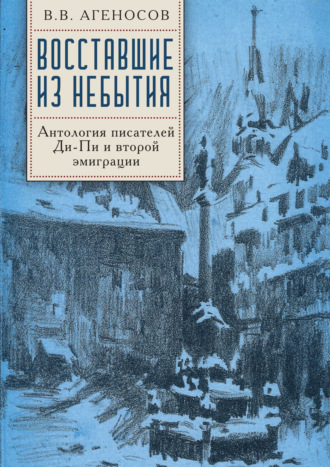
Полная версия
Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.
Жанр: литература 20 векаантологиянаши в эмиграциирусская эмиграцияпослевоенные годыэмигрантская прозакультурологические исследованиязабытые имена
Язык: Русский
Год издания: 2021
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу