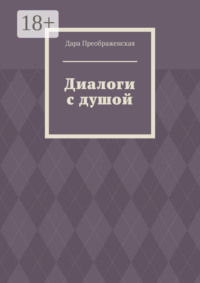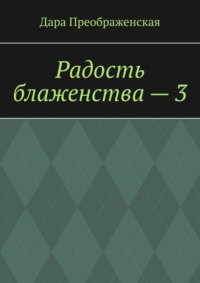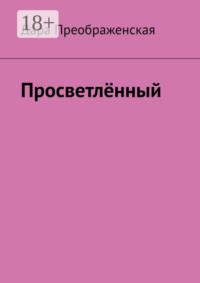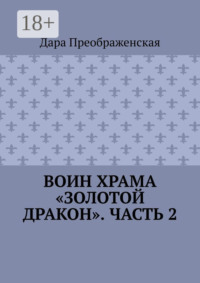Полная версия
Золотошвейка
Отец Димитрий улыбнулся, похлопал племянницу по плечу:
– Это вам так ваши священники преподносят, чтоб страх в чистых душах посеять. Дьявол-то в нас самих, в людях сидит, сами грешим, а потом на чудище сваливаем. Не любим мы себя, Машенька, оттого и грешим, а, коли, себя полюбишь, так и всех любить будешь. Недаром Иисус говорил ученикам: «Возлюби ближнего своего как себя самого». Аль не этому поучают вас церковные отцы?
– Они по-другому рассуждают. Сказывают, от искусителя подальше держаться надобно.
Отец Димитрий головой покачал:
– Нет, Машенька, в человеке грех, в нём одном. Не любим мы друг друга, оттого и зло творим. Чувствую я, у тебя одной здесь чистое сердце.
Погладил девушку по светлым волосам.
– Сколько годков-то?
– Пятнадцать, дядюшка. Мачеха говорит замуж бы пора.
– Ничего, успеется. А ты чего не ешь? Небось, ещё не обедала. Садись.
– Нет, дядюшка, не хочется мне что-то. Вы – добрый.
Подошла к печке, взяла расписанный поднос. Посмотрела. Там ромашки красовались – сама рисовала.
– Возьмите. Это Вам на память от меня. Тётя Полина его очень берегла.
Глянул на художество отец Димитрий. Снова улыбнулся.
– Смотри-ка, ромашки-то, как живые. Твоя работа?
Маша кивнула.
– Я ещё и золотыми нитями по полотну шью. Меня мастерицы с мануфактуры обучили.
– Ну хватит тебе хвастать-то. Постыдилась – бы, – в дверях показалась Марфа Тихоновна, нахмурилась.
– Иди-ка лучше в погреб, Груне помоги грибы таскать. Софья-то с Катериной из-за мигрени не могут.
– Сейчас.
Марфа Тихоновна к свояченнику подошла:
– Вы её, Михайло Иваныч, больно-то не слушайте. Она не от мира сего, всё в облаках витает, пора бы уж и о серьёзном подумать.
Машенька на дядюшку вопросительно взглянула.
– Иди, Маша. За поднос спасибо. Он в монастырском хозяйстве пригодится, да и я о тебе чаще вспоминать стану.
А сам подумал про себя: «Бедная. При родном отце в доме, словно чужая. Храни тебя Господь от злых людей, Машенька!».
…Накануне перед отъездом ходила Машенька в церковь к отцу Григорию.
– Чего тебе надо, дщерь?
– Напутствие, батюшка. Уезжаю я на яблоневый спас.
– Знаю, знаю. Наклонись-ка ниже.
Отец Григорий наложил руку на покрытую шелковым платком голову, велел крест целовать, а под конец спросил:
– Признайся, дщерь, грешна ли.
– Грешна, батюшка.
– В чем же грех твой?
– Отец Димитрий говорил, что грехи наши в нас живут оттого, что не любим мы себя.
– Никонианин!
Отец Григорий как-то недобро посмотрел на юную прихожанку.
– Грех твой, дщерь, в том, что доверилась вероотступнику. Молись!
Целый час отец Григорий наставлял «грешницу», вразумлял «неверную», рассказывал о происках дьявола.
– Диавол среди нас ходит, в оба смотрит, так и норовит к себе забрать молодых, – говорил отец Григорий. – А непослушных к себе в геенну огненную гонит, чтоб на огне жарить.
Испугалась, Машенька, расплакалась, ночью долго уснуть не могла, сон плохой видела. Будто убегала она от какого-то монстра, дважды вырывалась, затем, монстр превратился сначала в Марфу Тихоновну и заговорил голосом отца Григория: «Диавол среди нас ходит, норовит к себе забрать. В геенну огненную». Затем, исчез куда-то. Проснулась от слов нянюшки:
– Что с тобой, Машенька? Так и дрожишь вся. Неужто прихворнула малость? Собираться, ведь, пора.
Обняла свою подопечную, как родную дочь.
– Жалко мне расставаться с Вами, нянюшка.
– Не бойся, дорогая. Я о тебе не забуду.
Простилась с Сашенькой и отцом, слёзы еле сдерживала, села в запряженную единственной лошадью по кличке Красавка повозку и поехала. Кучер Варфоломей слишком уж быстро гнал.
Просила Машенька остановиться возле церкви послушать колокола, затем, возле речки и березняка. Вошла в березняк, постояла возле деревьев, поклонилась, дальше ехать велела. Варфоломей не стал вопросов задавать – привык он к странностям девчонки, как и все в Каменке, а она, словно бы, и не замечала этого.
В пути на двух заставах остановились. В первый раз – на постой лошадей: сеном красавку накормили, напоили водой; во второй – на ночь, возле костра.
Оказалось, заезжие охотники отдыхали, Варфоломей и напросился. Пустите, дескать, к огоньку; отчего не пустить – садитесь, гостями будите.
Маша сначала боязливо попятилась, да Варфоломей удержал. «Не бойся, Марья Андреевна, люди они хорошие, плохого не сотворят».
Возле затухающего огонька трое сидели: один толстяк, с бритой головой, который всё время новые поленья подбрасывал; другой – старик сухопарый и костлявый, он больше молчал и пил из чашки кипяток; третий – мальчик, лет десяти. В стороне лежало ружьё и связка подстреленной на охоте дичи: три тетерева и две утки. Чуть поодаль, уткнувшись мордой в землю, почти что спала дворняга.
Варфоломей всё больше о житье-бытье рассказывал, охотники новостями делились о том, какие нынче перемены наступили. Бироны, да Минихи не у дел, как только государыня Елисавета Петровна на престол взошла, разогнала их к чёртовой матери. Алешка Разумовский сейчас при ней в генералах-фельдмаршалах ходит, славный он хлопец – из простого народу. В детстве-то в Малороссии стадо пас, а теперь – вишь какой пост занимает.
Кирюшку Разумовского государыня гетманом назначила. Война с пруссаками вот-вот начнётся, Фридрих совсем обнаглел – на российские владения позарился, а канцлер-то Алексей Петрович Бестужев здорово политику ведёт: Лестока и Шетарди выдворил. Охо-хо, вот такие дела.
Толстяк Сенькой назвался, он всё рассказывал, Варфоломей, лишь, вопросы задавал, остальные молчали; Машенька, также, в разговор не встревала.
Маленькие кусочки мяса жарились на вертеле, наподобие шашлыков, старик с желтой, морщинистой кожей, добавлял луку и закусывал.
Толстяк к Машеньке обратился:
– А ты чего, голубушка, не ешь? На вот, попробуй. Сенька, говорят, отличный повар.
Девушка на убитых птиц покосилась.
– Скажите, дяденька, а разве хорошо это в зверей стрелять? Больно, ведь, им тоже.
Сенька полено взял, обмакнул в костёр, направил в лицо Машеньки.
– А ты откуда такая выискалась?
– Каменская я. Андрея Иваныча – купца дочка. Может слыхали?
– Слыхать-то, пожалуй, не слыхал. – Сенька вздохнул. – Зверьё не грех убивать, в нём души нет.
– Неправда. Они всё чувствуют, как люди. В прошлом году наша Красавка соседского мальчишку из проруби вытащила.
Варфоломей закивал, а сам Сеньке подмигивает: не обращай-де внимания на девчонку. В ночи слышалось потрескивание костра, да чавканье жующих.
Уговорил Сенька Машу кваску испить на меду. Ближе к утру уснула. Сенька всё время подходил к девушке, стёганое одеяло поправлял, чтоб не замерзла. «Интересная девчушка», – думал толстяк, – «чудная она».
Не помнила Маша, как в повозке оказалась, как до самого Петербурга доехала. Варфоломей, лишь, на подъезде в бок ткнул: «Вставай, мол, дорогая». Машенька глаза протёрла, зевнула, потянулась малость, глядь, а вокруг людные улицы, переполненные народом, все куда-то спешат, делом заняты, ходят туда-сюда, словно заводные. Мимо рынка проехали, Дуня Ивановна через квартал на Гороховой проживала, там же у неё и мастерская.
Машенька проголодалась, пирожки с капустой взяла, да калач Угличский с изюмом и орешками. Закусила.
Колокола так и звонят весь день, а через небо шпиль Петропавловский виден. Петербург, как на ладони раскинулся.
По улицам прохаживали важные горожане и горожанки в напудренных до невозможного париках, расшитых мундирах со звездами и длинных пышных платьях со шлейфами, каких Машенька даже в мыслях не могла себе вообразить. Изредка стройный людской поток прерывала проезжающая карета какой-нибудь государственной персоны. Встречался и простой народец; женщины в широких длинных сарафанах с платочками, как у Маши, мужички-купцы, с корзинами, наполненными яблоками и капустой. В воздухе чувствовался запах пыли; Машенька, то и дело, несколько раз чихала (в деревне было свежо, не в пример крупному городу).
– Ничего, привыкнешь, – бормотал Варфоломей.
– Неужели это Петербург? – спрашивала Машенька.
– А то. Не нравится?
– Не очень.
Кучер только рукой махал:
– Дело наживное, Маруська.
Где-то совсем рядом слышался стук молотков, плотники трудились над временной резиденцией государыни – Зимним. Тяжело давалась работа, талантливый Растрелли был слишком требовательным. Государыня Елисавета Петровна хотела, чтобы дворец был выстроен в стиле барокко – так-де в Европе строят, так и объяснила итальянскому архитектору.
Машенька от удивления аж рот раскрыла – красивым ей показался дворец.
– Здорово!
Варфоломей подмигнул:
– Ну как, уж нос не воротишь.
– А сколько церквей-то здесь, дядька!
– В Каменке одна, да и приход маловат, – согласился кучер.
Пришёл Машеньке на ум отец Димитрий, вспомнила его лицо с добрыми серыми глазами, от которых, будто, свет лился, сделалось на душе как-то тепло и спокойно.
Варфоломей хлестнул лошадь, Красавка завернула за угол и понеслась вдоль узкой мощёной улочки с аккуратными домами местной знати – выходцев из дворянства.
Роскошный барокко Зимнего выражался в пышных колоннах Коринфа и причудливых завитках домишек аристократии на Гороховой. Здесь уже не было так людно, как в центре: лениво шли служанки с покупками в модных платьях с кружевными воротниками и корсетами, да повара, несущие в хозяйские дома, либо сами, либо с помощью лакеев, яйца, зелень, дичь и пряности, обретённые на рынке.
Вновь зазвонили колокола, теперь уже по всей столице, то переливчато-нежные, то грубовато-звонкие; где-то звонил один колокол, где-то позвякивало множество маленьких колокольчиков, а в целом создавалась удивительная гармония. До чего ты звучна и певуча, древняя Русь! Никаким новшеством не удалось тебя изменить, в глубине твоей души всё же остаётся что-то старое, устоявшееся, выработанное веками.
Машенька улыбнулась, утёрла слёзы, посмотрела в ясное голубое небо с единичными облачками. Жара стояла невыносимая – август нынче выдался не таким, как обычно.
Наконец, Варфоломей натянул поводья.
– Тпр-уу!
Красавка остановилась возле маленького аккуратного особняка с треугольным фронтоном и разными пристройками. Неподалеку различались деревянные ещё не до конца оформившиеся строения купечества и более бедных слоёв населения.
– Приехали! Вылазь Маруська. Ну что, нравится?
– Немножко. Только чужое всё.
ГЛАВА 4
Дуня Ивановна Городилова проживала в прекрасном доме почти на самой окраине Гороховой. Домик практически ничем не отличался от остальных; каменный, с высокими колоннами и прямыми широкими ступеньками лестницы. Он был выкрашен в розовый цвет, чем и выделялся среди довольно приличных особняков Петербурга.
Городиловы процветали: швейная мастерская находилась рядом в качестве пристроя с низкой крышей; тут же во дворике располагались разные хозяйственные подсобки, где обычно держали скотину, слуги чистили картошку и чесали языками, а сзади раскинулся сад с яблонями и грушами. Весной, во время цветения, здесь было особенно уютно, пахло нектаром и мятой, а проворные шмели перелетали с цветка на цветок и что-то жужжали «себе под нос».
Посреди сада были сформированы овощные грядки. Девица Акулина и бабка Дарья выращивали морковь и помидоры, да чеснок. Летом они обычно занимались прополкой, в марте – перекопкой земли.
Машеньку и Варфоломея встретила молодая женщина, которая назвалась Фросею. Одета она была по-простому: в синюю юбку и лиловую кофточку. Худое лицо с выразительными карими глазами вряд ли можно было назвать красивым, но таилась в нём какая-то необъяснимая духовная сила, которую нельзя измерить никакими мерками.
Мальчонка лет восьми прятался в складках её юбки и испуганно глядел на гостей. «Совсем как волчок» – подумалось Маше.
Чёрный платок, скрывавший светлые волосы, говорил о том, что она была вдовой.
– Где хозяйка-то?
– Уехала она утром еще с какой-то важной дамой. Во дворец. Пётр Петрович ещё не вернулся. В Москве он.
– А ты кто будешь? – посмелел Варфоломей.
– Приживалка я. Мастерица. Дуня Ивановна меня из жалости с сынком Никиткой к себе взяла. Дай Бог ей здоровья. Я при комнатах.
Варфоломей усы пригладил:
– А Григорий и Артемий где?
– Сыновья-то Дуни Ивановны на службе, при Елисавете. Они сюда редко захаживают, всё больше при дворе.
Варфоломей толкнул Машу вперед:
– Это – Марья Андреевна – племяшка хозяйкина. Дуня-то Ивановна сама дочку Андрея Иваныча к себе звала. Вот она и явилась, родимая.
Вдова внимательно посмотрела на гостью, улыбнулась:
– Хорошенькая. А что же вы стоите-то на пороге? Проходите. Я вас сейчас чайком напою. Небось с дороги устали. Эй, Никитушка, помоги вещи занести.
Мальчишка сразу же бросился исполнять просьбу матери, ловко подхватил узелки и понес в верхние комнаты.
– Да Вы больно не суетитесь, – бормотал кучер.
Фрося самовар вскипятила, за чаем промолвила:
– Дуня-то Ивановна предупреждала, что Машенька приедет. Только не сегодня ждала она. Я-то сегодня в мастерскую не пошла – голова, малость, приболела.
– Ничего, бывает.
Варфоломей, лишь, на блюдце дул, да сахарком закусывал, сам красный от удовольствия, как свёкла.
Поглядывал, то и дело, на смущённую Фросю.
– Был бы я, Ефросенья, вольным, взял бы тебя в жёны. Уж больно хороша.
– Что Вы. Обет, ведь, я дала; не сниму вдовий платок. Верующая я.
Варфоломей только рукой машет.
– Не дело говоришь Фроська. Кто ж на всю жизнь-то зарекается?
Фрося глаза в пол опустила:
– Не сниму я вдовий платок.
Машенька их не слушала, наблюдала за тем, как Никитка рожицы корчит, хихикала – смешной он. Затем, во дворе голубей кормили. Голубки прилетят, накинутся на крошки, склюют, после чего важно так ходят, ещё просят. Подкинешь им хлебушка – снова склюют, от удовольствия ворковать начинают.
Никитка проворнее голубей кормил; не в первый раз – Маша за ним повторяла.
– Они всегда такие голодные?
– Угу, – кивает Никитка.
Дуня Ивановна, лишь, на закате пожаловала. Увидела Машеньку, обняла, расцеловала, велела бабке Дарье пироги испечь.
Маша гостинцев всяких с Каменки навезла: грибочков, варенья, мёда. Андрей-де Иваныч и Марфа Тихоновна посылают, в городе-то мёд – особенно вещь ценная, так как при кашле лечит, горло успокаивает, здоровье даёт.
Пироги у бабки Дарьи всегда отменные получаются. Она их так делает, чтоб на языке таяли: сначала раскатывает тесто на огромном столе, каждый раз посыпая мукой да тех пор, пока оно совсем не станет белым и не липким. Затем, руками, как следует, придавит и рюмкой хрустальной кружки вырежет, яблок или мелко порубленной капустки наложит, залепит по краям и в печку. Из печки они уже румяные, как на подбор выходят и сразу на стол попадают.
А ещё хорошо бабка Дарья борщи варит, долго ложкой жир мешает, зато потом борщец-то наваристый получается, все добавки просят, особенно сам хозяин. Городилов Петр Петрович любил Дарьиной стряпней побаловаться. Ест и нахваливает: «Молодец, Дарьюшка! Вкусно!»
На этот раз без Петра Петровича ужинали. Григорий и Артемий – сынки Дуни Ивановны, ввечеру приехали: стройные молодцы, в зелёных мундирах с золотыми петлицами (в хозяйской мастерской вышитыми), с Машенькой поздоровались. Машенька смутилась – понравились ей племянники: рослые, красивые, смеющиеся. Братья шутили, с племянницею заигрывали, трюфелями угощали.
Варфоломей ночевать остался, а поутру с благословениями обратно отправился, обещался каждый месяц из дому от курьеров весточку отправлять, а как заскучает Маша, за нею приехать.
Девка Акулина Машеньку до горницы проводила; горенка рядом с Фросиной располагалась, по соседству Никитка обитал, ему Дуня Ивановна отдельную комнату дала: пусть-де малец живет (итак уже судьбой обижен).
Машина горенка на улицу выходила, где как раз кареты ездили с богатыми дамами и галантными ухажёрами, дальше высились храмы с большими куполами и белокаменными стенами. Обрадовалась Машенька, здорово-то как! Теперь каждое утро будет она звон колоколов слышать, как самое дорогое. На стене висела картина неизвестного художника с изображением пышного букета незабудок в глиняном кувшине. Маша долго разглядывала картину, не могла понять – откуда взялось столько краски и как она держится – такого Маша никогда раньше не видела; сама-то по-другому подносы расписывала, по-своему.
Обстановка отличалась простотой: в углу небольшой резной столик, накрытый белой скатертью, рядом стул и кровать с одной единственной периной. На окне – остаток оплывшей парафиновой свечи; каждый раз девица Акулина приносила новую. Горница Маши находилась на втором этаже пристроя (Дуня Ивановна и Петр Петрович жили в самом доме), поэтому на обед приходилось спускаться по переходу.
Фрося в последнее время приболела и бабка Дарья таскала ей еду прямо в горницу: то оладьи с сиропом, то кофей, то окорок.
Часто Машенька слышала, как из Фросиной горенки доносились какие-то заклинания. Однажды даже подглядела: над кроватью, где лежала больная, стояла бабка Дарья и брызгала на её бледное лицо воду, при этом вкрадчиво шептала: «Изыди нечистая. Возьму ключи от тридевяти земель, отнесу Ивану-воину, Серафиму-старцу и Богородице. Никому не отдадут они тех ключей. Пусть раба божья Ефросенья от недуга излечится, пущай весь сглаз и порча сымутся. Быть посему. Аминь».
Пугалась Машенька этих заклинаний, к Никитке бежала.
Однажды слышала, как Никита Акулину спрашивал: «Почему-де наша улица гороховой зовется». Девка Акулина всякие небылицы выдумывала: «Когда-то такой улицы и в помине не было, – говорит, – ехал как-то один купец с Подмосковья с мешком гороха, а в мешке том дырка была. Ну и горох-то сыпался постепенно по пути купца. А когда дома строить начали, улочку гороховой и прозвали. Вот так-то Никитушка».
Фрося тяжелую жизнь прожила, многое на своем веку повидала. В детстве сиротой осталась, вышла замуж за смутьяна Герасима, который напивался и побоями молодую жену потчевал. А как Никитка родился, совсем запил, дома не показывался, в драки ввязывался. Ну и забили Герасима до смерти. Фрося побиралась, от одного богатого дома к другому ходила, везде её гнали, однажды даже в карцер посадили.
По доброте душевной взяла её к себе Дуня Ивановна (Фросенька до сих пор на нее царице небесной молится). В мастерскую стала хаживать, шитью обучилась, теперь и других учит.
Через неделю и Машенька в мастерскую пошла, показала мастерицам, что умеет. Взяла полотно, надела на пяльцы и начала тонкой иглой узоры выписывать. И моссульским шитьем цветы создавала, и персидской, и сербской вышивкой владела, и борта славянскими узорами «писала». Дивились только мастерицы (девки-то молодые), лишь, старица Жанна обучила Машу лангетному шву и «двусторонним крестикам», да еще накладному шитью с блестками и китайским узорам.
«Иголку-то наискось держи, а швы ровно накладывай», – говорила Жанна.
Немкой она была, оттого и строгая такая. Дуня Ивановна хорошо платила за уменье иноземки, Жанна в ответ мастерскую в своих руках держала, молодым мастерицам спуску не давала. К Машеньке же по-другому относилась (знала, что хозяйкина родня). Маша довольной была, нравилось ей целыми днями вышивать, работу даже к себе в горницу до утра брала.
Затем работу тётке показывала. Дуня Ивановна восхищалась, на полотно глядя. Узоры, словно живыми делались, так и плыли мимо глаз.
Вот будет возможность, поговорю я о тебе, Маша, с самой статс-дамой государыни, – говорила Дуня Ивановна, – тебе, голубушка, с таким талантом во дворец надобно.
«Мне и здесь нравится, тётенька, – возражала девушка. – Я манерам не обучена, оттого трудно мне во дворце-то будет. Да и батюшка мой – простой купец».
Дуня Ивановна только отмахивалась: «Ничего, манерам тебя, Машенька, научат. А дед твой, Иван Иваныч, дворянином был. Так что и ты не из простого народа будешь. Понравишься государыне, она тебя обратно дворянкой сделает!»
Снилась Машеньке государыня Елисавета Петровна. Видела она государыню страшную, злую, высокомерную, в пышных жемчужных юбках, на корсете. Хмурится и глядит так строго, чтобы комар носа не подточил, а Машенька за нянюшкину спину прячется.
«Нянюшка, нянюшка, помоги мне», – шепчет. Нянюшка в Фросю превращается. Фросенька берет за руку Машу и тащит за собою в горницу, куда государыня войти не может, мешает ей что-то. Каждый раз после снов таких в холодном поту она просыпалась, молилась, Елисаветы – государыни боялась.
Случалось, когда в доме никого не было, ходила Машенька по горницам, принцессою себя воображала. Представляла, будто богатства у нее видимо-невидимо везде: и ларцы с золотыми слитками, и сундуки с изумрудами, да самоцветами – всего вдоволь, а только не нужно ей этого. Соскучилась по своим берёзкам, по рощице с речкой. Варфоломей – кучер, пару раз на днях приезжал, письма из дома привозил, другой раз вестовые заглядывали от Сашеньки и Андрей Иваныча привет передавали.
«Ну как, Маруся, домой-то не надумала ехать?» – писал батюшка.
Иногда за чаем Дуня Ивановна спрашивала: «Нравится ли у меня тебе, Машенька? Али в Каменку податься хочешь?»
«Нравится, тётенька», – отвечала Маша.
Тётка Дуня и впрямь настоящей красавицей была: стройная, с мушками на лице, брови подведены, при парике и кринолинах.
По молодости серые глаза юной жены унтер-офицера при деле не одного вельможу с ума свели. Любила Дуня Ивановна воротнички кружевные одевать, они тогда, как раз, в моду входили. С Варфоломеем гостинцев в Каменку посылала; расшитые мастерицами платки, вино и бусы из перламутра для Марфы Тихоновны. Пусть-де порадует Андрей жену.
От Машеньки ответ передала. «Всё у нас хорошо, Андрей. Дочка твоя молодец. Вышивает не хуже моих работниц. Жанна довольна ею. Талантлива она у тебя. За медок спасибо. Бабка Дарья пироги печет медовые. Никогда таких не едала! Пётр-то Петрович довольным остался бы».
Пётр Петрович Городилов вернулся во вторник, в августе, 25-го числа. По этому поводу стол накрыли, бабка Дарья пирогов морковных напекла – любил шибко Пётр Петрович пироги-то, особенно морковные жаловал, ест, а сам, того и гляди, облизывается. Машенька – племянница ему понравилась.
«Замуж бы пора, – сказывал. – Ничего, женихов в Петербурге много. На такую красавицу с васильковыми глазами ещё больше будет. Елисавета-то Петровна молодых гвардейцев держит».
Пётр Петрович про надвигающуюся войну с Пруссией больше говорил. Фридрих, словно взбесился, а генерал Апраксин и канцлер Бестужев на войне настаивают. Только Елисавета ещё думает, советуется с Алексеем Григорьевичем Разумовским (все же генерал-фельдмаршал он). Разумовский тоже раздумывает, да, видно, Фридрих на переговоры не очень идти хочет! Эх, тяжелые времена нынче предвидятся! Машенька слушала и молчала, ей-то не многое из рассказов дяди понятно было. Главное, чтобы все живые остались, а остальное «припишется».
Веселье у Городиловых случалось, когда Григорий и Артемий приезжали из длительных поездок, тогда многочисленные слуги хлопотать начинали, бегают по дому туда-сюда, на стол накрывают, особенно толстый повар Демьян.
Красноносый, с огромными ручищами Демьян, учился у придворного кашевара-француза «мсье Дебре», который знавал толк в салатах, приправах и супах. Нынче французская кухня в моду входить начла, оттого Демьян новые заморские блюда готовил «из самого дворца».
Бабка Дарья постоянно с Демьяном спорила. «Наша-то русская пища, куда вкуснее и полезнее, чем все эти хранцузские дурачества».
«Ничего ты не понимаешь, старая!» – говорил Демьян, чувствуя острого на язык конкурента в юбке. Поэтому, не выносили они друг друга, за глаза сплетничали. О том весь дом уже знал, только хозяевам всё одно – что Демьянинова стряпня, что Дарьина. Кроме Акулины и бабки Дарьи в доме много слуг обитало, Машенька их редко видела, они в пристрой почти не заходили, разве что полы вымыть, да и то, Фрося сама чаще справлялась.
Нравился Машеньке Петербург. Как только снег первый выпал, народ гулянья на окраине устраивал, в городки играл, в снежки. Строил горки и целые ледяные дворцы с мебелью и изразцами. Каток всегда переполнен был. Машенька с завистью смотрела за тем, как молодёжь резвилась (у самой-то коньков не было, а очень ей хотелось по льду Невы прокатиться). Девушки румяные в пушистых шубках из горностая, парни веселые в тулупчиках и валенках так и норовят позабавиться.
Частенько мимо дворца на санях проезжала, заглядывалась на царские строения, восхищалась мастерством, однако тянуло её что-то к царским покоям, не могла Машенька понять что.
Посещала она храмы православные. Бог-то один, хотя батюшка и к староверью привержен. Приходила помолиться за покойного дядю Фёдора, да вспомнить отца Димитрия – дядю Михайло Иваныча.