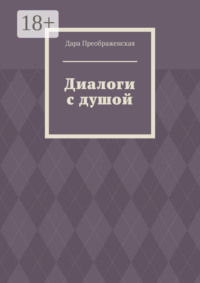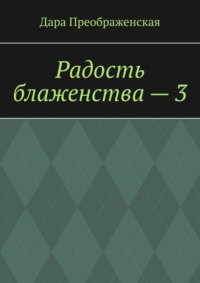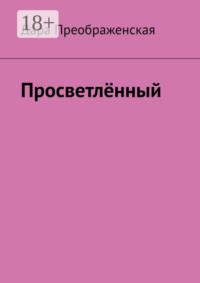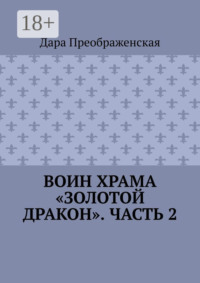Полная версия
Золотошвейка

Золотошвейка
Дара Преображенская
© Дара Преображенская, 2022
ISBN 978-5-0056-6036-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Преображенская Дара «Золотошвейка», роман
Об авторе
Автор – Моисеева Ольга Александровна родилась 11 марта 1973 г. В 1990 г. окончила школу с углублённым изучением английского языка в маленьком провинциальном городке Глазове в Удмуртии. В 1996 г. окончила медицинскую академию в г. Перми, однако затем, поняв, что выбрала специальность не по своему усмотрению, поступила в 1998 г. в заочный экономический институт в г. Кирове, который окончила в 2000 г.
С юности увлекалась Востоком, древнеиндийской литературой, творчеством Н. К. Рериха, нетрадиционной медициной. Рисовала картины, посвящённые медитации, углублению во внутренние сферы Бытия.
Прочитав книгу Р. Моуди «Жизнь после жизни», ещё больше заинтересовалась древневосточной религией, а также парапсихологией. Её книга – синтез взглядов людей Востока и Запада, ещё одна попытка понять это загадочное Творение и Высшее Существо – Бога.
P.S. Три песни в мининовелле «Золотошвейка» услышаны мной в исполнении Жанны Бичевской и включены в это произведение.
Содержание
стр.
Мининовелла «Золотошвейка» – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – - 6Золотошвейка
(мини новелла)
ПосвящаетсяВеликомученницеКсении БлаженнойИ всем сподвижникам божьим.ГЛАВА 1
Ах, русская сторонка! Тянешься ты много вёрст, и все одно и то же: овражки, леса – бесчисленные леса, размякшие дороги со следами конных троек и звоном бубенцов, покосившиеся кривые домишки, белокаменные церкви с духовно прозревшей аскетичной братией и золотыми луковками куполов. И все это – родная рассеюшка, вольная волюшка. Какой-то дух мудрый и светлый притаился в твоих недрах, дух не умирающий… в тишине лесной чащи говорит он с тобой на внутреннем языке твоей души. Прислушаешься и чувствуешь, как глубоко ты врос в корни этой земли. А красота—то какая! Чу, где-то слышится шум целебного родника, поет он, шепчет… и лечит. Когда-то сюда хаживали старцы в грубых рубищах и молились, долго молились, укрощая свою плоть. Молитвами их жива еще душа русская. Хаживали сюда и басурманы, и поляки. Зарились на незримое богатство, да только с чем пришли, с тем и ушли. Молитвами – да божьей помощью…
И все же славна рассеюшка своими подвижниками, да храмами. Где еще так поют колокола, как у нас? За много верст слышна эта «музыка». Сказывают: «Там, где колокола поют, там беда стороной проходит».
Вот и в Сосновке слышен звон на всю округу. Церквушка там стоит еще с елизаветинских времен.
Славная церквушка. И не красотою своей славна она. Вовсе нет. Срублена из дерева с тяжелыми дубовыми дверями и стрельчатыми оконцами. Правда, местный дьякон Владимир давно вынашивал план реконструкции деревянного «божьего дома» на краснокирпичный, да только волостная церковная братия пока что медлила с деньжатами. «Мала Сосновка—то, мал и приход», – рассуждали церковные чины.
Сосновка—то мала, да только народец «в дом божий» так и прёт. Постоят, послушают молебен, покрестятся и идут к иконе. Идут с восковыми свечками, со своими бедами и напастями. Кто овдовел, кто родил, кто решил податься на чужую сторонку.
Да, много всего у русского человека. Икон-то в Сосновском приходе видимо-невидимо, только толпятся все больше возле одной.
Сказывали местные купцы, писана та икона неизвестным мастером Андрюшкой Савельевым. Давно уж помер Андрюшка—то, а работа его осталась. Бедным был Андрюшка, жил на самой окраине Сосновки, пил беспробудно, затем, вдруг остепенился, начал поститься. С собутыльниками своими порвал. Закрывался у себя в домике и целыми днями не показывался. Так и жил. Вот и закрепилось за ним прозвище «Андрюшка – сомнамбула».
«Вон Андрюшка – сомнамбула идет», – выкрикивали мужики. Бабы только охали и показывали пальцем у виска.
А Андрюшка совсем не обращал внимания, махал рукой и шёл дальше.
Находились и заинтересованные. Чтой-то там Андрюшка—от – сомнамбула один-то в дому делает. Ах, женить бы его! Да только про женитьбу Андрюшка слышать ничего не хотел. Что там было у него на уме, чёрт его знает. Только не хотел и все тут.
Дед—то Михей часто хаживал к Андрюшке. Посидит, покашляет о том, о сём, да уходит восвояси. Сказывал дед Михей про Андрюшку сомнамбулу, а бабы диву давались.
– Чем наш дурачок-то промышляет?
Дед наполнял табаком свою трубку-самоделку и говорил:
– Да и не дурачок он вовсе, бабоньки. Домишко у него от родителей старенький, да и обстановка простая. Так – стол, печка. Мудреный наш Андрюшка, ей-богу мудреный. Я ему: «Давай-де самогончику разопьем, батяньку твово помянем». А сам там что-то выписывает за своим-то столом. Ну, знамо дело, я к столу. Удивитесь бабоньки, как глянул я чтой-то там наш Андрюшка робит, так и ахнул.
– Да ну, дед Михей…
– Вот те и «да ну». – Дед Михей стряхивает табак и продолжает уже задумчивым выражением бесцветных глаз.
– А взгляд-то ее горемычной до того светел был, что серденько мое так и ёкнуло. Сама—то, как лебедушка делая, волосы-то русые так и вьются. Ей-богу, вот вам крест, бабоньки, нигде не видывал я такой красоты-то.
Дед Михей торопливо крестится.
– О ком это ты дедушка?
– Вот и я о том же испрашивал Андрюшу-то. Чтой-то ты там выписываешь на доске своей?
А он мне: «Не знаю, дедуля. Да только явилась она мне, когда я уж совсем плох сделался. Окаянная-то водка совсем покоя мне не давала. Тошно мне сделалось, дедуля. Прочел я молитву, да и приготовился помереть, а тут вдруг слышу: „Не гоже это, божий человек, вот так пропадать“. А голос такой нежный, звонкий, как мелодия небесная. Открываю я глаза, дедуля, и вижу, стоит передо мной девица в сарафане простоволосая, а с лица-то свет так и льётся. Я-то думал, что окоченею, ведь не шутка – студено было. Только так тепло сделалось мне вдруг, будто лето пришло. В наших краях, сам знаешь, лето жаркое стоит».
«Знаю, знаю Андрюшенька».
А он продолжает: «Когда я очухался, девицы уже и след простыл. Да только видеть ее начал, как наяву, словно угодницу божью. Ой, дед Михей, забросил я окаянную водку-то. Сгубила она трех моих братков, сестрица Маланья только убереглась, ибо с купцом Сергеем Митричем обвенчалась да в Суздаль подалась. Отец—то мой резчиком был, меня кой-чему обучил. Знаешь ведь, дедуля, тем и живу – кому телегу починю, кому ставни на окнах вырежу. Пустое это».
Дед Михей вновь стряхивает табак, обводит всех внимательным взглядом, поглаживает густую бороду. Бабы слушают, раскрыв рты, сказать ничего не могут супротив. Даже про дела домашние забыли.
Сказывал Андрюшка то: «Дед мой когда-то иконописью промышлял, уменье мне свое передал, – небось, пригодится. Три дня я живот морил, ел постные щи, да каши, а на четвертый взял кисти. А рука-то сама идет, будто не моя она вовсе. Перевернула она всю жизнь мою, что прошла во грехе. Я, дед, в скиты бы подался, да сердцем болен. Совсем слаб сделался».
Дед Михей тяжело вздыхает, никак груз непомерный на своих плечах держит:
– Да только сказывал Андрюшка-то: «Помру я скоро», – говорит. – «Ты, дедушка, „картину“ – то снеси в церковь, да сорокауст по мне закажи. Пусть люди смотрят и радуются. Хоть одно доброе дело по Андрюшке останется».
Дед Михей вытирает рукавом скатившуюся по щеке слезу и махает рукой:
– Э-эх! Не дурачок он вовсе, бабоньки, а божий человек.
Андрюшка и впрямь скоро помер. Родни-то у него не осталось, сестрица Маланья Сергеевна поспела, лишь, на «трехдневник». Хоронили его всей Сосновкой, отпели, поминовенье заказали. А дед Михей Андрюшкину икону в церковь снес. В те времена нового батюшку Димитрия из Пскова ждали. Не исполнить волю усопшего – грех величайший, вот и оставили «угодницу божью» в храме до приезда батюшки.
Люди, как прознали про то, валом повалили в Сосновскую церквушку «поглядеть на Андрюшкину работу». Увидели, признали, и молиться начали. Помогала им угодница, ибо сам народ про то сказывал. Бедному вдруг деньги, как будто с неба «свалятся», несчастному удача улыбнётся, бесплодный потомством обзаведётся, глупый прозреет. Начали страждущие стекаться в Сосновку с близлежащих деревень и уездных городов. Вот и решили оставить угодницу – народ просил.
Прошло уже много лет. Церковь в Сосновке до сих пор стоит, и народу не меньше там, а больше. Сами волостные церковные чины бывали. Да только не одобрили они угодницы, не по канонам-де написана и не известно, чей это лик. Решили убрать. И вновь чудо случилось.
Плакать начала угодница, а плакать-то не простою влагой, а благовонным миром. Слыхали отцы православия о миротечении, да только не думали увидеть такое в маленькой Сосновке. Опешили они. Да ничего не сказали. Предложили перевести угодницу в Петербург. Отец Серафим и дьякон Володимир воспротивились. В Сосновке-де родина угодницы, пусть и остается на своей земле. Больше добра будет. От почестей отказались, а сберегли угодницу. Молва об Андрюшкиной иконе выросла аж до самой столицы и Малороссии. Приезжали богатые купцы, сановники поглядеть на «диво Сосновское». Сказывали, сам дипломат Румянцев заезжал, да золотопромышленник Иван Щеглов.
Привозили с собою купцы пожертвования, кто слитками, кто целковыми. Один купец даже купола для церкви на свои деньги выплавил.
Хаживали и простолюдины, и братия из соседних монастырей. Молились за доброту угодницы.
А миротечение тем временем продолжалось, то на Святки, то на Рождество, то на Троицу.
Пожертвования-то пошли на перестройку храма. Отремонтировали ризницу, заказали новый колокол, понаехали живописцы, да мастеровые, завелись работы, приют для бездомных организовали. Словом, загремела Сосновка, а всего-то сельцо небольшое о сорока домов. Строительство завершилось, лишь, на весеннюю капель. Так и прозвали Сосновскую церквушку храмом плачущей Угодницы.
Сказывали, также, о заезжем старце Никите. Никита-то слишком набожную жизнь вел и всех святых угодников под Псковом и далече знавал. Вот и заинтересовались: «что-де за лик на иконе-то написан». Старец пожал плечами, походил по округе, поспрашивал у народа. Люди всякое говорили по округе, поспрашивал у народа. Люди всякое говорили, – живала тут старица Пелагея, добро беднякам и обиженным судьбой насылала, ходила в рубище.
Думал Никита, размышлял: «Нет не Пелагея в Сосновской церкви изображена, уж больно молода угодница-то мироточащая». Совсем, было, потерял надежду Никита, да видно господь неспроста привел своего приспешника к умирающему крестьянину Сергею Давыдову из соседней деревеньки Полесье.
Это в наши времена нет страждущих богомольцев, а тогда ходили они из селенья в селенье, просили краюху хлеба с солью, да молились за не скупящихся.
Давыдов давно слег, был он стар, сам уж понимал, что обуза внукам да снохам, у которых хлопот полон рот.
– Задыхаюсь я, – говорил умирающий, – скоро отправлюсь на божий суд.
А как услышал вопрос старца Никиты о плачущей Угоднице, улыбнулся, закашлялся и молвил: «Слыхал я про одну странницу. Да о ней многие слыхивали. Тогда я еще совсем мальцом был, под стол ходил, а она Угодница и в Полесье показывалась и в соседние села. Говорили, помогала больным, лечила, исцеляла, молилась за нас. Сказывали, красавицею была, носила то, что добрые люди подадут, ела крохи, да насыщалась всем и еще нищих кормила. Сказывали, была во фрейлинах у самой императрицы Елизаветы Петровны. Да только умом порешилась, говорили, чуть заживо себя не сожгла. Уж не знаю, какая там трагедия приключилась, об этом сказывала мне тетка Прасковья. Она ту странницу блинами не раз потчевала. Потом слава о ней прошла далеко от Полесья, видывали ея и в Пскове, и в Новгороде, – Давыдов махнул рукой, – везде видывали. Не знаю я, из каких она мест родом и каких кровей, а звали угодницу, кажется, Мариею».
С тем и отправился в обратный путь старец Никита – рассказать в Сосновке о божьей угоднице Марии. Дошел до Сосновки, глянул на белокаменную церковь с золотыми куполами и перекрестился.
«Поклон тебе божья обитель. Поклон, смиренная братия»
Красиво в Сосновке особенно летом. На том берегу речки лесок с косогором. Когда солнце только-только припекать начинает, из зеленой травы показываются желтые головки одуванчиков, ландыши и васильки. А воздух какой! Сосновая смола. Поэтому Сосновкой то село и зовется. Много там раньше было сосняков, это сейчас все повырубили. А раньше сосновые шишки собирали и заготавливали впрок – говорят целебные они. Леса, леса, кругом леса, а рядом Сольцы, Чудово и Вырица, оттуда рукой подать до Гатчины и Питера.
Лес…,словно живое существо, которое манит к себе, зовёт. Зовёт своей загадочностью и силой, поэтому в тех краях что ни деревня, то к лесу близко и названия все лесные: Полесье, Сосновка, Дубовка, Березняк. Русская земля, глубинные корни, непознанное начало, страдающая русская душа. А ей и море по колено.
ГЛАВА 2
Иван Иванович Розанов был типичным однодворцем, то есть измельчавшим служилым землевладельцем, когда-то несколько сотен тысяч их поселили по южным границам государства Московского для защиты еще при царе Петре. Был не слишком богат, не слишком беден, владел сотней крестьян, коих не особо старался обременять, несмотря на наказ батюшки, был жаден до приключений и охоч к наукам. Осиротев, оставшись без отца и матери, не мог больше Иван Розанов проводить спокойно дни в своем имении, вынести одиночества не мог, да и время пришло бурное, неспокойное не в пример предшественникам Петровым. Россия перенимала заморские нравы, привычки, а, также, науки. Приверженцам старины тяжело приходилось: не странно ль это – боярин да без бороды и чаю, везде заставляют кофей распивать, иначе рискуешь попасть в немилость государю. А кофей-то горек слишком, так и воротит, никуда не денешься, только одно и слышишь от подлипал-то Петровых: «Пей, пей, свиное рыло! Привобщайся к культуре».
Шведов погнали с моря Балтийского, Карл – лихач так с носом и остался. Хоть скрипели бородачи – бояре, да опосля оценили дальновидность Петра, с Балтией-то торговлю развернул: торговали мы медом и патокой с Англией, с Голландией чугуном, медью; они нам вино, шерсть, колбасы, да сыры, да ткани. Рыбный промысел процветал – наша-то флотилия, пожалуй, не хуже иноземной, шкиперов голландских пригласили, новых судов понастроили. Времена пришли бурные, неспокойные.
Дворянскому сословию Петр тоже спать не давал, сынков-то дворянских изнеженных тормошил. Они должны были до пятнадцати годков обучиться грамоте, цифири и геометрии в нарочно для того устроенных школах при монастырях и архиерейских домах. Уклонявшийся от обязательного обучения терял право жениться. Поступая на службу, дворянин делался солдатом гвардии или даже армии. Он служил вместе с людьми из низших классов общества, которые поступали по рекрутским наборам. От его личных способностей и усердия зависело выбиться в офицеры; личная заслуга выдвигала в офицеры и простого крестьянина – солдата. Ни один дворянин не мог стать офицером, если не был солдатом, но всякий офицер, кто бы он ни был по происхождению, становился дворянином. Основанием службы была личная выслуга, а не родовитость, как прежде. Не любил Петр прихвостней-дворянчиков, не любил и бояр в строгости держал, спуску не давал.
Высокий со сдвинутыми бровями и кудрявой шевелюрой, Петр держался всегда прямо, умел кулаком стукнуть, умел и по-русски повеселиться, как говорится «на широкую ногу», частенько бивал Алексашку Меньшикова, да только прислушивался к мудреным словам Алексашки, но, прежде всего, любил все новое, необычное, любил работу шкиперскую, плотницкую, государскую. И прекрасно понимал – занять придется терпения, чтобы сдвинуть с места неповоротливых русских мужиков, а если не хватит терпения, что ж, придется и силу применить. Ничего! Силушки – то уж точно не занимать.
Не боялся этих перемен молодой Иван Розанов, поступил на службу к государю, как полагается начал с рекрутов. Не пугала его и монотонная муштра и тяжелые будни, коими была полна солдатская жизнь. Оставил свою деревню Каменку на усмотрение Степана Глазкова – управляющего, и был таков.
«Ты, дядь Степан смотри, да меня жди», – наказывал хозяин на прощанье. Знавал Иван Розанов, что дядька-то Степан не совсем на руку чист, воровать горазд, чутьем знал Иванка, да ладно уж. Как-никак, сорок годков отдал Розановым. Будет с него. С тем и ушел на службу.
Тяжела была государева служба, вечные походы, вечные недосыпания, приходилось спать прямо на снегу или в сырое туманное утро брести по росистой траве, промочив ноги. А еще, дворянские сынки потешались – голытьбой называли, офицеры здорово муштровали: чуть что на гауптвахту посылали, да дворяников-то не больно трогали, на простом люде отыгрывались. Все Ванька стерпел.
Со шведами еще не разделались, но оттеснили их далеко до Финляндии. Карл потерял надежду, но и мира не подписывал, а русские воевали в пол силы, да и то зарились на чужие владения.
А Ванька наш технику военную осваивал и не просто осваивал, а новшества свои предлагал: фузеи-де поменьше бы выпускали, на весу держать легче, да и целиться проще, стволы—то чуть длиннее, порох лучше «разгоняется». Гвардейские чины соглашались, хвалили Ивана. Не один поход Ванька пережил, в смотрах участвовал. Сам Александр Данилович Меньшиков, правая рука Петра, хлопал Ваньку по крепкому плечу и говаривал: «Молодец, Ванятка! Петру Алексеичу слово замолвлю, прошение подам. За границу поедешь, науку грызть. Эх, вот прижмем шведа к стенке, тогда уж заживем».
Государь прошение подписал, видел молодца—гвардейца: «Ну, народец! Талант так и прёт. А вот такие молодцы нам еще как нужны!». Махнул рукой: «Чёрт со шведом, шведа выгоним, да не терять же под ядрами ум русский. Ладно, поезжай Иван в Голландию, а вернешься – ко мне сразу. Посмотрим, на что горазд, ну тогда уж берегись, в три шкуры драть буду!».
Большое впечатление произвел на Ваньку государь. В годах, высокий, в широченных ботфортах, при мундире с императорскою лентой и орденами, но, все-таки, с медвежьей простотою и силой, а выправка, а гордость! Вот уж настоящий самодержец – умеет россиюшкой-то править, что ни говори. На то она и кровь царская потомственная от Иоанна Грознаго. Иоанн-то редко улыбался, а Петр и на похвалы не скупился, но и попусту не раздавал.
Отправился Ванька в Голландию, в Саандам. Плыли на русской шхуне по Рейну несколько дней, солёный воздух и ночные звёзды такую тоску наводили на сердце Ивана – тоску по родной земле, что двадцатитрехлетний гвардеец едва держался от слез. Увидел бы кто, пристыдили, дескать, испугался паренек трудностей, никак еще до государя дойдет.
Голландия поразила царского гвардейца. Домишки аккуратные кирпичные с остроконечными черепичными крышами, ратуши, мостовые, народ как-то одет по странному, не по православному. Русские-то бабы в кокошники, да полушубки беличьи рядятся и щеки свеклой натирают, сметаной лицо мажут.
Голландки же румяна не накладывают, а сами худы и бледны, и волосы у них светлые. Засматривался Иван, да мимо проходил: русские-то красавицы и пышнее, и к сердцу ближе.
Бывало, дворянские-то сынки песни пьяные в кабаках балагурили, с девицами ихними шастали, а Ванька усердно учился, – помнил, видать, слова государевы. Изучал географию, военные искусства, инженерию, даже латынь, прилежанием заслужил одобрение почтенных профессоров. В Амстердаме был, видел тот же порядок, что в других городках, не то, что на Руси: разбитые дороги, нищие в отрепьях с протянутыми костлявыми руками, юродивые дурачки и старые раскольничьи порядки, все еще живущие в душах народа. Тяжело вздыхал Ванька, да ничего поделать не мог – нищая, юродивая Россия по швам трещит, а все ещё стоит и стоять будет. Больно народец-то православный терпелив, униженьем жив, страданьем закален.
Друзья над Ванькой потешались: «Чудак, – говорили, – Учеба гульбе не помеха». Ванька рукой на них махал: перед государем-де ответ держать надобно.
Так он думал, да всего не учтешь, не оградишь себя от жизни-то.
Повстречал как-то Иван цветочницу – гвоздиками торговала, влюбился. Уж больно хороша девка-то была, высока, полна, грудаста. Было ли чего, никто не знал, да только образ заморской цветочницы Ванька глубоко в сердце схоронил, всё время открывал книжку на одной и той же странице с высушенной гвоздикой. Подержит в руках и обратно закладывает.
В положенный срок возвратился Иван Розанов на родину, отчитался перед государем за полученные на чужбине знания, дивился царь, не надивился; и в кораблестроении Ванятка знаток, и картографию освоил, и языки. И технику оружейную. Все освоил.
«Молодец, Ваня», – молвил Петр, а сам глядит, парень-то грустный, кручинится, да показывать не хочет.
«Случилось али чего, говори, от государя не скрывай. Я-то насквозь все вижу! Девка что ли какая приглянулась, слыхал я там у них тоже бабы ничего», – сказывал Петр.
Ванька молча согласился. Что скрывать, государь-то и впрямь все видит.
«Чего ж с собой не взял? Женился бы».
«Не поехала она, государь».
«Ну, ничего. Ты вон парень-то какой видный. Дворянство пожалую, вотчиной награжу, женю на красавице, заживешь славно».
Произвел Петр Ваньку в унтер-офицеры, вотчину дал немалую, а сынков дворянских, что ученьями пренебрегли, велел выпороть, да рекрутами сделать.
Долго еще Иван воевал, дослужился до восьмых рангов, офицером стал, выправку приобрел. В самой Финляндии шведа громил.
Одного только государь не осуществил – как был холостяком Ванька, так и остался. Не мог забыть он цветочницы Амстердамской, что бы ни делал с собой, служба – вот единственное утешение, с тем и жил.
Осенью праздновали мир, который заключили в августе в Ништадте. Условия были таковы: Петр получил Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и Карелию, возвращал Финляндию, уплачивал два миллиона голландских талеров в четыре года и не принимал на себя никаких обязательств против прежних союзников. Петр был чрезвычайно доволен. Сказывали, всю ночь во дворце шла гульба, государь шибко пьян был, а на Неве палили пушки да фейерверки так, что с того берега народ видел.
Выпросил Иван отпускную на «десять днёв», воротился в Каменку, решил новые волости освоить. Болело Ванино сердце. Давно он на родине не бывал, все ли там спокойно, жив ли дядька Степан. Горько сделалось на душе офицера Розанова, когда увидел он седые виски старика, никого у него не осталось, вот от этого-то и сник Иван, закручинился, голову опустил. Ушел-то из Каменки простым солдатом, а вернулся знатным вельможей.
Обнялись. Старик аж прослезился. «Прославил ты Ванюша свой род. Был бы батянька жив, покойный-то Иван Феодорыч, гордился бы, ей-богу гордился бы». Да только не веселым сделался Иван, молчал больше, закрылся в свою каморку и не показывался совсем.
На третий день обеспокоился Степан Глазков, перекрестился, помолился перед образами, да осторожно постучался к своему хозяину:
«Чего тебе, дядь Степан?»
«А ты сначала отвори, опосля и разговорами потчуй».
Отворил Иван двери, вошел старик и опешил: давно не бывал он в хозяйкой каморке, а теперь, будто заново все увидел: кровать дубовая за ширмой, лакированный секретер с гусиными перьями, да чернилами, за которым покойный-то Иван Федорович (царствие ему небесное), бывало, документы разные составлял и счета просматривал, на стене иконы в золоченых рамках; молодой хозяин в расстегнутом камзоле, обросший, с трубкой во рту.
Встал Степан Глазков, как вкопанный, не решился дальше пойти, словно испугался чего.
«Совсем ты постарел, дядь», – молвил.
«Телом-то немощен стал я, зато голова, слава богу, на плечах. Не о том, речь, Ваня. Чтой-то ты взгрустнул, уж не болен ли, аль еще чего?»
Тяжело вздохнул Иван Розанов, а сам трубку изо рта вынимает, да ходит туда-сюда по горнице отцовой, нервничает, только скрип половиц один слышен.
«Чтой-то ты Ваня, нос повесил?»
«Как мне не вешать. Отцу-то я посмертную клятву давал – богатством прославить род Розановский, а я, сам видишь, человек служилый. Земля-то есть, да дикая она, здесь работа нужна. Как же без хозяина-то? Завел бы мануфактуру, промысел бы рыбный освоил: через Ильмень по притокам оттуда до Волги-кормилицы рукой подать. Два дела освоил бы зараз, башка-то у меня соображает. Эх, да что там», – и рукой махнул.
«Ты, Ваня, погоди, вот посидим вечерком—то за чаем, обмозгуем. Я и Маланье велю печь затопить, самовар поставить. Она – мастерица хоть куда».
Девица Маланья – баба толстая, румяная, здоровая, пирог медовый испекла, варенья, да соленья на стол выставила, обрадовался Иван, как увидал богатый стол и кушанья. Давно не едал государев офицер такого: и икорка-то, и балычок, и баранки румяные, и сливки густые.