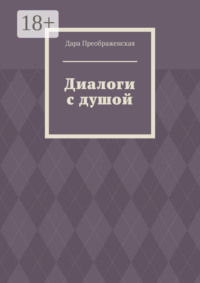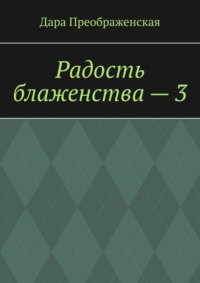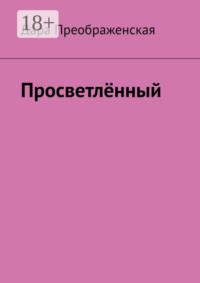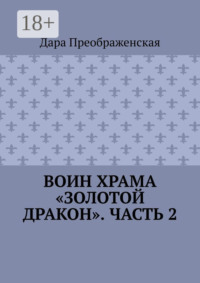Полная версия
Золотошвейка
Заморская-то пища постна больно: супы жидкие, да сыры, да колбасы разные со специями диковинными, ни щей тебе, ни квасу, ни редьки. Ел Иван, да языком причмокивал, другим глазом смотрел как дядька Степан Маланью за талию щиплет. Знал он, любил дядька погреховничать, хоть у самого семеро по лавкам. А Маланья довольнешенька, одно что приговаривает: «Кушайте Иван Иванович – кормилец наш, сил набирайтесь», – а сама только чаю подливает в блюдце и самогонки в кружку. Обмозговали.
Написал Иван Розанов прошение государю. Просил выделить немного земли для мануфактуры, а также денег, дабы развивать промысел на благо России. С неохотою писал Иван, боялся гнева царского, но Степан Сидорыч убедил: «волков-де бояться – в лес не ходить», а Петр-то Алексеич мужик с умом, поймет».
Ответ не замедлил прийти с вестовым. Три дня пришлось ждать, не спал Иван, не ел, совсем слаб на тело стал. Государь вызывал в Петербург, хотел-де русского молодца из глубинки сам поглядеть. А, глянув, передёрнул плечами, да молвил: «Ну что ж, Иван Розанов, показал ты себя на службе, покажи теперь в деле. Дам тебе и земли, и денег, и работного люда. Подымать Россию матушки вместе будем. Только не сплошай – торговать с иноземцами – не простое это порученье».
На том и порешили. Алексашка Меньшиков шутливо пальцем погрозил: «Хитер, ты брат, хитер! Ей-ей, держись. Языком зря не мели. Государь-то болтливых шибко не любит».
Приехал Иван в каменку прямо из Петербурга, осмотрел земли, осушил болото, построил мануфактуру для выпуска сукна, занялся рыбной торговлей на Волге. Рыба хорошо расходилась – всё сельдь да с икрой в бочки смоляные закатывали и за море отправляли, а то и купцам жаловали (своим-то подешевле). Осетрины много на лов шло, сети полны – полнёхоньки бывали, на осетра и покупателей больше.
Мастерскую еще выстроил, расписывали подносы, самовары, поставляли и на Макарьевскую ярманку, и в Москву. Любил Иван народные промыслы, ближе было по его душе, да и умельцев подобрал хоть куда, глядел на рисунки, и сердце радовалось, как солнышко сияло в полдень.
Так и жили по-маленькому. Вотчина Розановская процветала, деньги сыпались, как из рога изобильного, купцы съезжались поучиться уму-разуму, конкурентов-то Иван быстро разогнал, побаивались его, разные сплетни плели. Не след-де дворянину новоиспеченному в купцы подаваться, торговлей промышлять. А ему хоть бы что, пусть себе болтают паскудники—завистники, оттого и болтают, что самим невмоготу.
Время шло. Иван Розанов всё больше рыбацкое дело вел, мало дома показывался, а, бывало, приедет на Сретенье, да обратно. Хозяйство на плечах Глазкова лежало, умел дядька Степан с крестьянским людом обходиться, слушались его, уважали. И подати вовремя в казну государскую платил. Как ни старались завистники Розановский род к ногтю прижать, ничего не выходило, им как с гуся вода.
Намекал старик Степан Ване: «Жениться бы тебе, Ванюша. Я-то совсем стар стал, того гляди, слягу, а за хозяйством глаз да глаз нужен. Нонеча батрак Митька чуть три мешка с мукой не стащил, если б не я, не досчитались бы. Да и женска рука нужна. Маланья-то шибко ворчать стала. Детки пойдут, наследники, в радость. Неужто не судьба мне понянчить-то внучат покойного Ивана Федорыча – батьки твово».
Понимал Иван, что правду говорил старик, да ничего с собой поделать не мог, сердцу, ведь, не прикажешь. Не мог забыть синеглазой цветочницы. Частенько задумывался он, кому в наследство передать вотчину – один, ведь, остался, как перст божий. Так с тяжелыми мыслями и уехал на лов рыбный, сети-то уже готовыми стояли. Воротился на Ивана – Купала, два дня пожил, несчастье нагрянуло – дед Степан помер.
Как смерть родного отца перенес Иван кончину дядькину, ни единой слезинки не пролил, так помолился, постоял у гроба, отпел отходную, да помянул водкой и пирогом рыбным. И всё перед собой упрек видел: «Жениться бы тебе надобно Ванюша. Совсем, ведь, один».
Опустел дом, как будто душу из него вытрясли, лишился Иван и поддержки, и советчика мудрого. Кому теперь довериться?
«Не беспокойтесь барин, найду я Вам невесту подходящую. У Новосёловых-то Анюта давно в девках засиделась. И хороша, и пригожа, и с хозяйством ладит», – говаривала Маланья. – «Мне-то уж тяжеловато одной управляться, не первой молодости».
Не отказался Иван от Маланьиного предложения, но и согласия прямого не дал.
Сказано – сделано. Видел Иван молодуху на смотринах – соседского купца Михайла Сергеича Новосёлова дочку, а как посмотрел повнимательней, так и обмер. Словно прошлое встало перед ним – синие, как полевые васильки глаза Анюты глядели взглядом цветочницы заморской, только ближе они были, – глядели-то теплом, а не холодом жгучим.
Посидели, почаёвничали. Заперся Иван в своей каморке, открыл старую книгу, повертел в руках засохший цветок гвоздики, шептал что-то долго над реликвией (Маланья-то все слышала, плечами пожимала, удивлялась: «Не с ума ли барин сошел», – молилась, да всё обошлось, велел барин сватов засылать).
К весенним паводкам славную свадебку отпраздновали. Гостей собралось полон дом и все с подарками: кто с кадушкой меда, кто с деньгами, а кто и просто заезжий, волостные купцы были, да дворяне. По этому поводу Иван приказ отдал пятьдесят гусей зажарить, да подать. Стол ломился от угощения (умеет-де Иван Розанов гостям угодить). Все и на мнении сошлись – завидный он жених, и при чинах, и при богатстве, и умён, и из себя хорош. Анна Михайловна – молодая невеста, то и дело, опустит свои васильковые глаза и, потупившись, в пол глядит, а у самой щёки так от смущенья и пылают, как ранняя зорька.
Жили душа в душу, с хозяйством Аннушка славно справлялась, даже придирчивая Маланья довольна была, работа у ней в руках спорилась, быстро Розановский дом в порядок привела. Иван частенько жене подарки посылал прямо из Новгорода, где рыбацкие судна ледохода ждали. Сарафаны разные, шелка, да серьги, да украшения из золота.
А как детки пошли Иван Розанов, вновь, в Каменку подался за мануфактурой присматривать; на шхуну нового приказчика вместо себя поставил, двух старых уволил – больно уж ленивы, да воровать горазды. Новый-то Митрий Тимофеич востер, как дядька Степан, дело свое знает, не подведёт. Не только сельдь и осетринка пошла, а и окунь, торговля расширяться начала, известным стал Иван Иванович, промысловые купцы так и норовили Розанова подсадить, козни строили, напраслину развели. А он отчеты государю о своем деле торговом чуть ли не каждый месяц слал.
Первенца Андрюшей окрестили, то бишь, Андрей Иванычем. Как подрос немного, с деревенской ребятнёй в городки, да лапту заигрался, потом и военным искусством увлёкся, в армию государеву подался, в гвардейцы.
«Бунтарь Андрюшенька-то, ей-богу бунтарь», – думала Аннушка, беспокоилась, а мужу ничего не сказывала.
Второй – Федор Иваныч, двумя годками помладше – куда ветер дунет, туда и занесёт, глядя на старшего брата Федя тоже в гвардейцы подался. Любил Федька маршировать, нравилось отроку все утонченное, манерное: видел, как дамам в Петербурге ручки целуют, как вино в фужерах распивают и парики пудрят.
«Стержня в Федьке нет, Андрей-то Иваныч слишком самостоятельный, свободолюбивый, – говаривала Маланья, – кабы Федор-то Иваныч с пути не сбился, молод еще».
А сердце у Аннушки болело за третьего сынка – за Михаила Иваныча. Семи годков пристрастился Мишенька в местную церквушку заглядывать, в хорах пел, подолгу возле икон православных стаивал на коленях, молился. Нравился Мишеньке особенно Пантелеймон – целитель, как с живым разговоры вёл, обращался, совета испрашивал. Постарше стал, к отцу Варфоломею с разговорами хаживал, философски темы обсуждал: для чего человеку жизнь даётся, что есть грех, что – спасенье, как диавол сынов божеских искушает. Отец Варфоломей книжки разные юноше даривал, закон божий изучать велел, да Библию с канонами читать.
Нравилась Мишеньке церковная обстановка, нравилась тишина, треск свечей, да запах ладана, а еще пуще людей утешать нравилось «сбившихся со стада овец к отцу небесному посылать».
Однажды так напрямик и сказал: «В монастырь я, батенька, подамся. Постриг приму».
Как услышала такие слова Аннушка от своего дитятки, прослезилась.
Иван Иваныч утешил жену: «Не переживай, Аннушка. Остепенится наш Мишенька, в науку уйдет, а коль в армию захочет, пособим. Связи есть».
Успокоилась Анна Михайловна. Маланья-то иначе рассуждала: «Пущай его священником станет, соблазнов меньше».
Кроме сынков дочками Господь жаловал. Двумя. Третья-то еще в младенчестве родителей своих оставила, как только на свет божий показалась.
Старшую Полиной нарекли, младшенькую – Дуняшей. Очень уж любил дочек Иван Иваныч, в Дуне души не чаял: красавица с русою косой, все смеётся, бывало, да наряжается. Сосватал Дуню Ивановну делец из дворян, некий Городилов Пётр, увез к себе в Петербург, сказывали – Дуня совсем знатной стала, дружбу с придворными особами водила, быстро этикет и языки освоила, кофей, как истинная благородная дама, пить пристрастилась, золотошвейную мастерскую вела, мужу, таким образом, в делах помогала.
Недоумевал Иван Иваныч насчет старшей дочки Полюшки. И в кого у ней такой характер непреклонный? «Пошла б под венец, авось изменилась бы». Не суждено было Полюшке под венец наряжаться: заболел ее нареченный жених Семен Федорыч Рябов, от неизвестной болезни скончался. Говорили, недоброжелателей-де рук дело, счастью они Розановскому завидовали, чёрные мысли посеяли, порчу наслали. Пока Семён болен был, хаживала Полюшка к знахарке – гадалке, травы заговаривала, а затем, их страдальцу выпаивала. Да только не помогли ему никакие заговоры, быстро парень увял, видать, сильна была зависть к благополучию дворянина – купца. Другая девка через год-то после смерти любимого вновь невеститься начинает, Полюшка же во все черное облачилась и молвила: «Останусь я в родительском доме молиться за раба божия Семёна, по хозяйству помогать буду, присмотрю за мамушками, да нянюшками. Вот и весь мой сказ». Молвила и бровью не повела.
Сватов соседи посылали (невеста-то видная из дворянского роду), с чем приходили сваты, с тем и уходили, всем отказ был. Хотели даже силой увезти, да супротив воли Иван Иваныч не дал.
Чем дольше жила Полюшка под родительской крышей, тем более непреклонной и суровой делалась. Бывало, стоит перед иконою и молится целый день, но не так, как Мишенька (тот-то всё советов у угодников испрашивал, да за грешных просил отпущения), а с каким-то фанатичным блеском в глазах.
Осунулась, похудела, побледнела, словно увядший цветочек.
Анна Михайловна сначала за дочку пугалась, кабы не заболела, море слёз выплакала, но ничего поделать не могла, а беседы вести с Полюшкой не решалась: зачем-де соль на рану сыпать. Полюшка же со слугами совсем строга стала, за волосы никого не таскала, а как посмотрит, так «рублем одарит», побаивались ее. Маланья – старуха боялась, хоть у самой характер не сахар был. Зато в хозяйстве от Полины большой прок вышел: никакой работы не гнушалась, вышивать и прясть могла, даже огурчиков, да разных заготовок сама на зиму солила. «Своими руками вкуснее выходит, а прислуга всегда чего-нибудь положить в рассол забудет: то хрену, то смородинового листа», – говаривала.
Как детки подросли, Иван Иваныч вновь на рыбный промысел уехал. Давно уж там не бывал, так, все наездами. Сказывали, севрюга нонеча в цене, надобно на неё лов наладить.
В народе так говорят – за большим счастьем всегда горе по пятам идет.
Смерть Петра тяжело Иван Розанов воспринял, ходили слухи – от простуды государь скончался, хотя крепок здоровьем был. Подкосил его русский климат, устал воз тяжкий вести, сил, видно, не хватило. Смерть государя для Розановых предвестницей оказалась, суровые времена пришли.
На престоле неразбериха творилась: постоянные подозрения, козни, сплетни, тайные недоброжелатели, желающие, как можно быстрее захватить власть – им нужен был не бездетный правитель, а глупый недальновидный политик, через которого можно было проводить свою линию. Особливо покушались на трон всякие немцы, да пруссаки, Петр-то Алексеич, видать, не угоден был, шибко уж шустёр. Ой, шустёр! При Анне-то Курляндской по другому пошло: Бироны, Минихи нагрянули, как саранча, спасу никакого не нашлось, всё с ног на голову поставили.
Неделю вхождение на престол с огромной пышностью праздновали, денег уйму угробили, народ споили. Обжорству предела не было (сказывали, Курляндская большой чревоугодницей слыла, в пище меру не знала).
После воцарения хаживали к новой государыне лекари, – животом жаловалась, травами отпаивали с мёдом, «кажись, улеглось».
В государстве иноземцы править стали, всё немецкое внедряли: манжеты, парики, петлицы. Когда народ опомнился, поздно уж было: немец тут как тут, за спиной.
Указ издали: все непотомственные дворяне, кои выдвинулись ещё при Петре Алексеиче, лишаются земель и чина, дабы обеспечить деньгами казну. Отныне потомственность решает благосклонность престольной власти.
Промыслы у Розановых отобрали, мануфактура встала, триста душ крестьян в соседние вотчины отошло, подати, как грибы под дождём росли, душили разорившихся землевладельцев, а Бироны с Минихами только жирели на народных харчах, склоняли государеву власть на запад кивать, науки иноземные развивать, таланты исконно русские не у дел остались. Иван Розанов низко голову опустил, вновь в своей комнатке закрылся с лакированным секретером, когда выходил, мрачнее тучи делался, да молчал, ни единого слова ни вымолвил, тяжёлую думу думал.
Не одно прошение в Петербург послал, да бесполезно – никто не ответил бывшему солдату (не до него, видать, государыне, своих делов хватает).
Письмо Андрей Иваныч от матери получил, опечалился. Анна Михайловна слезами горючими обливалась, мужа жалела, на судьбу роптала: «Помоги, Господи, рабу твоему Ивану. Обереги его от козней людских и диавольских. Люди-то молву недобрую распустят, позлорадствуют. Береги здоровье, Андрюшенька, за Федей присматривай. Совсем ветер-то у него в голове гуляет, а ты, как-никак, старшенький».
Взял Иван Андреевич старенький молитвенник, покрестился, поцеловал крест, отправился в Петродворец к самому Бирону на аудиенцию. Понял Андрей – прошение писать бесполезно, всё равно ответа не будет, придворные чиновники не очень в бумагах разбираться любят, откладывают, пока проситель сам не отстанет. Не подступишься.
Парик модный напудрить велел, как в Англии носят, мундир с погонами одел, сапоги до блеска начистил – немцы-де перед аккуратностью теряются.
Впервые увидел Андрей дворцовую роскошь, потолки белёные, на стенах лепные узоры, люстры хрустальные, чуть ли не до самого пола паркетного пускаются, картины огромные в позолоченных рамах – вот куда казённые деньги тратятся. Приёмная до отказу народом забита, всем хочется поскорей свои дела обделать. Постоял, потолкался. Холод на дворе студёный стоял, едва ноги не обморозил, слава Господи, во дворце хоть натоплено, аж щёки зарумянились.
Бирон так и зыркал своими маленькими серыми глазками, которые бегали туда-сюда, словно выискивали что-то неладное. Худой, в сером парике, он производил впечатление отъявленного мошенника с цивилизованной наружностью.
«Что ше ви хатите, каспадин? Касударыня сама-сама указ подписаль. Ничем помочь не могу».
«Немчура проклятая», – думал Андрей. На мороз вышел кулаки сжал.
Гвардейский корпус неподалеку от Сухопаровского особняка стоял, где проживали братья Андрей и Фёдор. Марья Дмитревна Сухопарова бездетная вдовица отставного штабс-капитана Сергея Митрофановича Сухопарова, что ещё при Петре служил, была довольна своими постояльцами, души в них не чаяла, особенно в Феде. Мечтала Марья Дмитревна о детках, а их бог не дал, так полюбила чужих. Всегда на столе были горячие щи, чай, блинчики с икрой, следила, чтобы Феденька, да Андрюшенька сыты были, холода не знали, хоть сама не больно богато жила. Розановы исправно платили, все-таки, какой-никакой доход. Порой хозяюшка на эти деньги братьям гостинцев к праздникам покупала, однако в тайне держала, какие денежки на угощенье впрок пошли.
Андрей-то ранёхонько спать укладывался (утром, ведь, на службу), Фёдор какие-то еще книжки читал допоздна, а затем, тоже свечи тушил.
«Зренье не испортил бы, Феденька», – беспокоилась хозяйка.
«Ничего матушка, мои глаза мне ещё до старости сгодятся».
А в четверг и пятницу в комнатке обоих братьев долго свет мерцал. Какие-то служилые заглядывали, за большим столом в гостиной собирались. Чай с пирогами весь перевели с сахаром.
Не раз в тот вечер Марья Дмитревна со свечой к дверям подходила, в щель дверную заглядывала, открыть не посмела. Что-то уж больно суровыми лица гостей показались хозяйке. Всю ночь ворочалась с бока на бок, уснуть не могла: снился покойный муж Сергей Митрофаныч, кладбище, видела, как продиралась сквозь туман, потом бежала от какого-то чёрного человека, бежала, упала в землю и не в силах была подняться. Беспокойно на сердце у неё сделалось, всё бы хорошо, да нет, что-то не дает покоя.
Утром, как Федя уходить собрался, руку его в своей задержала.
«Ты береги себя, Феденька. Пораньше приходи. Я курей велю ощипать».
…Сказывали, особняк Бирона долго горел, изнутри визг, крики слышались (в субботний вечер у них званый ужин был), однако крепким оказался дом-то, не для простого люда построенный, с мраморными колоннами и треугольным фонтаном, устоял.
Кто знает, возможно, благодаря зимнему морозцу огонь потушить удалось.
Сказывали, кони, как сумасшедшие, встрепенулись, двух человек на смерть сшибли. Поджигателей быстро вычислили (служка видел, по описанию и нашли).
Бунтарей в казематы посадили, каждый день на допросы вызывали, кое-кого даже пытали.
Не выдержал Андрей жизни тюремной, сам сознался, что организовал мятеж. Федора и сообщников в Петропавловскую крепость бросили, Андрей-то покрепче был да порослее, его в Сибирь на рудники, к Демидову.
Марья Дмитревна долго в болезни пролежала, всё ей сон тот вещий вспоминался, да Федина ладонь. Долго не решалась Сухопарова в Каменку письмо послать, родителям Феденьки такое страшное известие сообщить, но делать нечего, – написала.
Как оправилась, пошла пороги чиновничьи обивать, хлопотать за Федю. Чиновники кивали, слушали, но помочь отказывались: государыни-де воля. Уж она и плакала, и божилась, надеясь разжалобить царских вельмож, – ничего не помогло. К государыне на поклон ходила, высокомерная Анна и слушать бедную старушку не стала. Выхлопотала, лишь, посылки Феденьке каждые две недели отправлять. Да только не знала Марья Дмитревна, что ватрушки и пироги не узник Петропавловский потчует, а охрана местная.
По церквам поехала: если люди не помогут, так Господь посодействует, не оставит раба божья Фёдора.
Не гуляет горе в одиночку. Три месяца пройти не успело, после тяжелой болезни скончался Иван Иваныч, известие об аресте сынков совсем его подкосило. Не пил, не ел, только бредил, называл какие-то имена, Анна Михайловна молитвы шептала, да кружевным платочком слезы со щёк вытирала. А как преставился Иван, заголосила: «На кого ты меня, миленький покинул. Что ж станется-то теперь с нами».
После смерти мужа Аннушка долго жить приказала – словно чёрною тучей покрылась Каменка, тишину гробовую нарушал, лишь, собачий лай, воронье, да изредка плач ребенка.
Кое-кто из оставшихся крестьян недавно успел семейством обзавестись. Работы в Каменке прекратились, батраки от недосмотра сами себе предоставлены были, развалилось хозяйство Розановское, в один год на убыль пошло, наживалось долгими трудами.
Перед смертью Иван Иваныч письмо оставил.
«Андрей воротится, ему передайте», – сказывал. Никто не знал, почему старшому письмецо предназначалось, видать, ему отец больше всего доверял, что-то важное сообщить хотел. Никто того письма не читал, так оно и лежало в резной шкатулке на секретере.
Михаил Иваныч в Москву подался. Сначала на клиросе пел, затем постриг принял, отрёкся от мира, надел чёрную ризу. Говаривали, в Троице-Сергиевой лавре он.
«За рабов божьих Андрея и Феодора молиться стану, авось Господь простит». Больше о Мишеньке не слышали – пути Господни, ведь, неисповедимы.
…На рудниках Демидовских тяжко Андрею пришлось. Рудокопы мёрли как мухи; кормили скудно: похлебкой жидкой, да квасом, да водкой иногда баловали, особенно зимой, чтобы кровь в жилах не стыла. После такой жратвы от ребят кожа и кости оставались и болезни всякие «липли», то бишь, приставали.
Бывало, под вечер наёмные казачки разожгут костры на кургане, дозором владения Демидовские обходят – не убежишь. А ребята в рудниках света белого не видят, в цепях, да кандалах до изнеможения работают. Мечтал Андрейка о бане русской. В деревнях такие строили, отец Иван Иваныч в Каменке две поставил в виде бревенчатых срубов, а в центре – окошко.
Разденешься донага, ляжешь на полок, попаришься берёзовым веничком, потом босиком да по снегу. Пару-то сколько бывало, аж всё вокруг белым-бело стоит! Угоришь, квасу с чайком выпьешь и снова в парильню. Э-эх!
Во сне Андрею снились эти бани, снилось, как снегом обтирается, чтобы стать свежим, как родившийся младенец. Душой очиститься, не только телом.
Пристрастился Андрей староверческие беседы деда Кускова слушать. Все беды-де оттого, что русские отреклись от веры своей, а на запад начали заглядываться. Жили бы по старинке, горя бы не знали. Слыхал Андрей о скитах староверческих, о старцах, что жили в строгости и воздержании и осуждали никонианство. Кусков утверждал, что креститься следует не тремя, а двумя перстами, как делали наши отцы и деды. Два перста – суть земля и небо, кои соединяются в молитве, а третий перст означает человеческое грешное начало и должен быть исключен при крещении.
Сначала слушал Андрей из интереса, потом соглашаться начал, сердцем жалел пострадавших за истинную веру. Бороду отпустил – так еще в прошлую эпоху прадеды носили, Петровские перемены возненавидел.
В холодных каменоломнях все чаще и чаще снилась Андрею родная Каменка и отчий кров. Снился младший брат Фёдор, вспоминал он и слова матери, что были сказаны перед отъездом в Петербург: «Ты уж, Андрюша, позаботься о Феденьке. Все-таки, братец твой». Видел печальные глаза Анны Михайловны и плохо ему делалось. Ведь это он братца погубил, не надо было его в дело брать, да разве тогда возможно было отговорить Федю. Сам, ведь, пошёл.
Подумывал Андрей о побеге (тогда б уж он Федю из Петропавловки вызволил бы). Пятерых товарищей собрал, план свой в тайне держали от чужих ушей – ненадежные могли везде быть, а за хороший куш и на предательство пойдут – народ тёмный.
Начали понемногу от пайка откладывать сухари, да плесневелый хлеб на дорогу. Как же без сил-то? Выбрали даже день, а тут сама судьба подвалила. Пасху праздновали, казачки здорово отмечали, – напились, всю ночь песни на рудниках слышались, к утру улеглись. Про то, что за узниками глаз да глаз нужен, забыли; не убегут-де – слабы шибко, да и кандалы помешают.
Да не помешали, видать, кандалы. Порешили беглецы двух казачков – тех, кто еще на ногах держались и дозор несли. Камнями придавили. Один сопротивлялся, ружьё наставил, хотел других кликнуть – не сработало. Ружьё Андрей захватил, а чтобы шума не было, велел кинжалом казака заколоть. Призраки убиенных ни разу не потревожили Андрея – клятву он перед Господом дал – что больше никого жизни не лишит, будь то друг или враг. Клятву Андрей свою выполнил, повлияли и проповеди Кускова.
Поначалу в скиты хотел бежать, но раздумал, чувствовал долг перед Фёдором и вину перед матерью.
Дошли до Кургана. Расстались. Трое решили в Персию податься. Андрей и дед Михайло наотрез отказались, в Персии-де басурманы наших в рабов превращают, ихние гаремы сторожить ставят евнухами. Дед Михайло сердцем ненавидел неверных, слыхал при обычаи ихние, про жестокие нравы, божился подальше держаться от всего басурманского (сам по молодости у турков в полону был, еле выжил, если б не нашенские купцы, век бы ему на чужой земле мучиться). На том и расстались.
С дедом Михайло до самого Углича добрались. Шли в отрепьях, до костей промерзли, в соседних деревушках богомольцами назвались: бабы еды и лаптей надавали, да разного тряпья, чтоб совсем не окоченеть. Солнце-то только-только припекать начало.
Заболел дед Михайло, тяжело захворал, Андрей старика выходил, тёплой водой отпаивал, своей едой делился, хоть дед и не раз о конце заикался: «Оставь ты меня, Андрюшенька. Не дойти мне».
«Доживешь дед. Хорошее ещё на своем веку увидишь». Не бросил старика.
Возле Валдая разошлись: одному на восток, другому – на север, к Великому Новгороду. Просил Михайло Андрея к себе погостить.
«Рад бы, да не могу, – был ответ. Не о себе волнуюсь, за братца хлопочу».
Обнялись сердечно. Дед Михайло слезу утёр: «Должник я твой, Ондрей. Без тебя бы не жить мне».
Смутился Андрей Розанов, но ничего не сказал. Еще раз обнялись, как сын с отцом и разошлись восвояси.