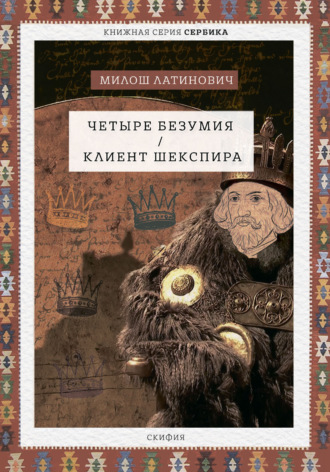
Полная версия
Четыре безумия. Клиент Шекспира
Станкович, серб из Земуна, который только начал взбираться по деловой и общественной лестнице города Аграма, немного помолчал, прикидывая – как и всякий образцовый и осторожный деловой человек в новой, незнакомой и относительно негостеприимной обстановке – не провоцирует ли его известный в городе режиссер Немецкого театра или же он взаправду верит в интерес публики, увлеченной могучим влиянием Иллирийского движения.
– Эту песню, насколько мне известно, опубликовал на сербском языке чудовищный Вук Караджич. Напечатали ее в городе Лейпциге, не так ли, мой друг?
– Точно.
– И вы, господин Станкович, хотите, как мне кажется, сыграть здесь эту пьесу на немецком языке? – вымолвил Кристофор.
– Да, иллюстриссимо, песнь прекрасна, к тому же перевод на немецкий язык Терезы Альбертины Луизы фон Якоб-Робинсон из Хале звучит великолепно. Госпожа подписала его псевдонимом Талфи. Мало кто может сказать, что автор песни не немец. Но, господин Станкович, я вам скажу еще кое-что: я – директор профессиональной театральной труппы и в этом случае руководствуюсь исключительно коммерческими соображениями. Народу, то есть публике, нравятся грандиозные представления, монументальная сценография, множество актеров на сцене, а если еще добавить немного порохового дыма и сражений на мечах и подчеркнуть в сценарии беспричинную жестокость властелина, ужасные страдания народа и сдобрить это любовной линией, то мы получим дивную, неповторимую историю. И это, господин Крсто, будет особенный, единственный в своем роде спектакль, – объяснял режиссер немецкой театральной труппы.
– Я, мой дорогой друг, могу согласиться на сотрудничество, но только при одном условии, – отозвался хозяин театра.
– Арендная плата не проблема, я уверен в хорошей прибыли. Называйте условие, господин Станкович, – попытался предвосхитить решение хозяина лукавый и предприимчивый Швайгерт.
– Аренда будет зависеть от вашего предложения, которое вы своевременно сделаете. Об этом мы, конечно, поговорим позже…
– В чем же тогда дело, иллюстриссимо?
– Я хочу, чтобы на ваших репетициях присутствовал мой молодой родственник. Его зовут Йован Кнежевич, – объяснил хозяин театрального здания на площади Марка в городе Аграме.
– Он актер? – спросил Швайгерт.
– Нет, в его родных краях нет стоящих театров. Его, похоже, заразили любовью к театру бродячие труппы, курсирующие по Банату. Родители прислали его ко мне из Вранева, прекрасного городка на Тисе, чтобы он пришел в себя и, если его разум не помутится окончательно, чтобы чему-нибудь научился в большом городе.
– Он где-то выступает? Хотел бы я глянуть…
– Сейчас работает в винном подвале, разносит вина. Живет у меня. Хороший, воспитанный юноша. Знающие земляки говорят, что он в свои восемнадцать уже талантливый актер, так что я вам его рекомендую от всей души, – сказал Станкович.
Теперь Швайгерт молча взвешивал значимость этого предложения. Опытный человек искусства, он знал, что не следует особо доверять человеку, «держащему в руке меч». Опыт – беспощадный учитель, и первый его урок говорит: берущий нечто вынужден рано или поздно заплатить, а теперь наступили такие времена, что надо быть крайне осторожным в делах и обещаниях, как с незнакомыми людьми, так и с добрыми друзьями, и даже с родным братом. Если кто-то предлагает тебе что-то, то ожидает так или иначе получить от тебя нечто взамен. Потому и был так осторожен хитроумный немец, что его работа, как, собственно, и жизнь, зависела от способности правильно оценить людей и ситуацию, и частенько ему доводилось подавлять страстные желания, поскольку волшебные посулы, сделанные на одном берегу, на другом могли стать причиной невосполнимых потерь.
– Видите ли, мой драгоценный иллюстриссимо, если ваш милый сербский мальчик может хоть немного говорить по-немецки, то мог бы поспособствовать мне в задуманном деле. Это очень большая пьеса, чтобы играть в ней, надо обладать крепкой памятью и уметь работать со многими людьми. Меня ждет тяжкий труд. Но – c’est la vie. Я принимаю ваше условие, уважаемый господин Станкович, – произнес мудрый и хитрый немец, протянув руку Кристифору Станковичу.
Сделка свершилась.
Unter den Mondschein
Серебряная лунная пыль осыпала роскошные ветви каштанов и темные лица высоких домов, обитатели которых давно погасили свет. Ночь была теплая. Тихая. Летняя.
Две колеблющиеся тени неспешно скользили вдоль фасадов упакованной в белый цвет улицы Обермайер, триумфально завершающейся на берегу реки Изар. Плечи их были украшены сверкающим серебром.
Глухой звук шагов.
Стук каштанов в зеленой колючей броне, шлепающихся как гранаты на каменный тротуар. Броня разваливается, и из-под отечного века показывается прекрасный карий слезящийся глаз.
– Твои годы и ее неизлечимая болезнь, – произносит Савич, прервав затянувшуюся паузу. Он остановился, чтобы звук шагов не заглушал его слова.
– И было бы иначе, Иоганн? – спросила Анна Дандлер.
Ухнул филин.
Беспокойство в кронах.
– Насколько я помню, вы живете здесь? – поинтересовался Савич.
Анна Дандлер посмотрела на него. Молчала, ожидая ответа на заданный ею вопрос. Ее отец Людвиг тоже долго не мог найти подходящих слов, чтобы ответить на ее вопрос о том, являются ли дети ненужной роскошью, если они по разным причинам становятся для родителей непосильной обузой. Анне казалось, что Савич, скованный лунным серебром, ужасно похож на него. Людвиг Дандлер так никогда и не ответил на вопрос дочери.
– Вовсе не иначе, дорогая моя Анна. Не иначе, – наконец произнес Савич, после чего поклонился молодой актрисе и пошел вниз по улице.
The moon shines bright. In such a night as thisWhen the sweet wind did gently kiss the trees,And they did make no noise, in such a nightTroilus methinks mounted the Troyan wells,And sighed his soul towards the Grecian tents,Where Cressid lay that night.[3]Выйдя на аккуратную набережную, на километры протянувшуюся вдоль реки Изер, Савич бросил взгляд на деревья. В воздухе пахло летом. Круглая, полная луна. Оранжевая, как спелая дыня.
На берегу Тисы
Синее летнее утро выплеснулось из черного русла ночи на Банатскую равнину. Свет захватил незащищенные просторы. Небо стало голубым, как накрахмаленная плахта. Июльский день засверкал как детская слеза. Редкий кристалл. Только здесь, в этом необъятном пространстве, может народиться такой день. Без облаков, без ветра, без птиц.
Золотые листочки, выпавшие из солнечной корзины, трепещут на зеленых водах реки Тисы. А воды эти струятся. Тихо, неумолимо.
Тенисто было только под высокими кронами тополей, стоящих вдоль пыльной, вьющейся к югу дороги. Неподалеку, под куполом двух низкорослых верб, растущих у самого берега, несколько уток спрятались в рогозе.
Святой день – воскресенье. Базарный день. На низкой земляной дамбе, защищающей город от паводков, собралось много народа. Мужчины. Торговцы. Ремесленники. Женщины. Дети. В чистой одежке, в национальных платьях или одетые по последней моде, они терпеливо ожидали перевоза, чтобы попасть на другой берег, на рынок, в трактир в центре города или на берегу реки, в магазины с товарами из Вены, в баню, бордель, кондитерскую или в какое-нибудь другое место, где можно потратить, а если повезет, то и заработать деньжат. Множество телег и фиакров направились к центру города. Перед паромом, перевозившим людей и товары с одного берега на другой, образовалась неописуемая толчея. Цыгане, усталые после ночной попойки, играли фальшиво, не попадая в ноты. Пели охрипшими голосами еще хуже. Забывали целые куплеты, пропускали слова. Проходящий мимо народ клял их почем зря, вполголоса отпуская непристойные ругательства. Бедняги не заработали ни форинта. Разве что богатый хозяин Лазар Дундерский подал им бумажную купюру, да и то только для того, чтобы насолить толпе. А народ поливал его за это:
– Цыганам подает, а нищие люди помирают…
– Котяра жирный!
– Все Дундерские вечно против людей были!
– Богатый, а дурной…
И еще много чего гадкого говорили, да только Дундерский плевать хотел.
Неподалеку от этой толпы, в тени тех самых двух верб, сидели артисты – Радуле, Магда и Симона. Развалившись в высокой траве, они завтракали солониной и зельцем, печеными яйцами, молодым сыром и теплым хлебом, зелеными яблоками и дикими грушами. Пили сок бузины, приготовленный им госпожой Шилич. Перед ними на причале, к которому были привязаны две узкие лодки, два местных парня и две девушки, болтая босыми ногами в теплой речной воде, играли в какую-то очень веселую игру, стараясь невпопад отвечать на задаваемые вопросы, заливаясь при этом звонким смехом.
– Замечательно, когда в город приезжает театр, все вокруг сразу оживает, – сказала девушка на причале.
– И правда, Милица, когда видишь не только надоевших ярмарочных музыкантов и фокусников, – отозвалась ее подружка Благица Милич.
– Меня мой папаша обещал в Новый Сад свезти театр посмотреть, хотя ему и не по душе это, а мне плевать. Театр я очень люблю. Особливо комический, – похвасталась Милица.
– Точно, – подтвердила Благица.
– Хочу посмотреть на Драгицу Ружич. Говорят, когда она играет трагических личностей, то просто потрясает зрителей, доводит их до слез, – сообщила Милица.
– Как я хотела бы посмотреть Новый Сад, – вздохнула дочка портного Милича.
– «Новый Сад, гнездо ты соколиное, что героев-соколов моей стране рожаешь…», – неожиданно затянул песню Радуле. Молодежь на причале уставилась на артиста. Парни смотрели хмуро, а девушки громко и кокетливо смеялись.
– Наш родич Михайло Шилич играл в театре у Иоакима Вуича, был статистом в пьесе «Светислав и Милева», а это большое дело, потому что сербы знают, кто был таков Иоаким из Вуичей, – с угрозой в голосе произнес коротко стриженый парень с узким прыщавым лицом. Ему хотелось, чтобы этот актер Радуле услышал его слова, чтобы все увидели, что и в нем таится некий гистрионский ген.
– Это тот господин из Нового Сада, что потом сильно обмадьярился и со всей силой набросился на нашего Милетича, – сказал второй парень, который и раньше, когда они соперничали в игре, ясно демонстрировал нетерпимость по отношению к родственнику Шилича.
– Я про то, Стевица, не знаю, в политику не вмешиваюсь, этого мне и папаша мой не велит, но знаю, что на театре наш родич Шилич очень знаменит. Потому он и популярным был, и ценили его, – продолжил мальчик.
– Славная карьера. Удачный статист и неудачный патриот. Мой папаша рассказывал, что Михайло Шилич в Мадьярской партии был таким активным, только чтобы позлить Милетича, а поскольку ему это не удалось, то, как наш адвокат говорил, стал из города в город скитаться, и нигде себе места не находил, – поддел Стевица.
Резкий свисток оповестил о прибытии парома. Гомон утих. Какое-то желтое марево трепетало над рекой. Несколько заблудившихся бекасов рванулись из тростника, словно спасаясь от ласки. Вода вокруг парома забурлила, поддавшись его тяжести.
– В пять репетиция! Никому не опаздывать! Работаем новую пьесу… – громко скомандовала Магда.
– Опять что-то героическое? – спросил Радуле.
– Точно, Радуле. Будет тебе геройское… – ответила черноволосая девушка, глядя парню прямо в лицо, после чего лукаво улыбнулась и тихо завела песню из драмы Иштвана Балога под названием «Карагеоргий и завоевание Белграда турками»:
Не рада я своей младости,Когда кругом творятся гадости,С милым быть мне невмочьНи белым днем, ни даже в ночь…– Геройское время, героические пьесы, – подтвердила Симона. – И еще я скажу тебе, дорогой ты мой Радульчик, теперь каждое представление – геройское дело.
– Ну вот, это дело здешнему народу нравится, а Мурари наверняка Карагеоргия изображать перед ними будет. Славный герой шестидесяти лет, а меня какого-нибудь турка играть заставит, глупого и смешного. Мурари – витязь пузатый, а мне, несчастному, мерзкому слизняку, в голову луковицы и морковки летят, стоит только на сцене появиться, – огорчился молодой актер.
– Нет, мой дорогой, на этот раз ты – герой. Да, турок, но – паша. И костюм у тебя роскошный будет. Ты еще таким красавчиком ни разу не был… – объяснила Магда с ехидцей.
– И возненавидит меня народ сербский, и мадьярский, и румынский, и цыганский. Все, кто придут. А тем, кто на представление не попадет, потом долго обо мне, ужасном, рассказывать будут. Турка здесь никто не любит. Куда как лучше мне Бранковича играть, тогда меня только сербы возненавидят. Мадьярам и прочим наплевать на «Битву на Косовом поле» и на его гнусное предательство. Иной меня еще и пожалеет за это, – пожаловался Радуле на свое специфическое амплуа в труппе Мурари.
Паром начал движение вниз по реке. Битком набитый. Люди тащили непомерный груз на руках, на спинах, на головах. Беспокойные кони едва только на дыбы не вздымались, телеги перегружены, вода чуть ли не захлестывала деревянную палубу. К счастью, день был прекрасный, Тиса тихая как стоячая лужа, так что перегруженный паром легко скользил по воде, направляемый ловкой рукой лодочника. В церквях прозвонили полдень. Семь колоколен подали голос. Словно музыканты, настраивающие инструменты.
В этот момент Милица вступила в лодку, причем весьма неловко: та закачалась с борта на борт из-за неправильной нагрузки, и уже в следующее мгновение, словно кто-то подтолкнул ее, девушка с криком свалилась в мутную воду. И только тогда на нее обратили внимание оставшиеся на берегу люди. Милица сначала вынырнула, но потом вновь исчезла под поверхностью взбаламученной воды. Она умела плавать, еще ребенком научилась бороться с непредсказуемой мутной водой и быстрым течением, но неожиданное падение в глубины вод может сбить с толку и более опытного пловца. Похоже, ее потащило сильное течение фарватера, по которому плыл паром, или же неприметный водоворот, каких немало на Тисе, подстерегающий купальщика как сварливая женщина.
– Помогите, люди, захлебнется девушка! Утонет Милица! Эй, люди, скорей сюда, спасите! – кричала девушка на причале, но все вокруг словно онемели. Никто из шумной компании, где только что готовы были спорить и смеяться, не то что не вымолвил ни слова, но даже ничего не думал предпринять.
Вскочил только Радуле. Не раздумывая ни мгновения, театральный негодяй, предатель косовский, глупый Капитан, легко перепрыгнул двух девушек из труппы, оттолкнул парней, тупо, испуганно уставившихся в воду, окаменевших от ужаса, и бросился в мутную воду реки. Он сразу нырнул, и пока все, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, вынырнул, набрал воздуха и опять ушел под воду в том месте, где Милица окончательно погрузилась в глубину. В это мгновение метрах в трех показалась голова и рука несчастной девушки, которая из последних сил старалась найти хоть какую-то опору, спасение. Радуле, несомый течением, приблизился к ней, ухватил Милицу за руку и постарался приподнять ее над речной гладью. Быстро развернул ее спиной к себе, левой рукой ухватил голову за подбородок и подтащил к своему плечу, после чего, сильно загребая правой словно веслом, поплыл на спине к берегу. Течение в Тисе быстрое, и нелегко плыть по ней с грузом в руках. Парни на берегу наконец-то стряхнули оковы страха, бросили ему прочную толстую веревку с широкой петлей на конце, и дружно принялись подтаскивать Милицу и Радуле к берегу.
Пока молодой актер выносил на руках обессилевшую девушку, с зеленой поверхности реки взлетел в воздух миллион белых мотыльков-однодневок, жизни которых хватало только на короткий, в несколько минут, полет и на любовь. Их незабываемый смертельный танец был, собственно, триумфом счастья и неудержимой радости освобождения от ила, в котором они рождаются, терпеливо ожидая своего момента, своей белой рапсодии над спокойной водой, что случается только раз в год, раз в жизни.
На левом берегу Тисы уже скопилось много любопытствующих, привлеченных неожиданными криками, а также необычным природным феноменом, и ожидающих развязки неприятного приключения.
Наконец подоспела помощь. Доктор Эдвард Молнар промчался сквозь скопившуюся толпу. Аптекарь Вайс и торговец Эмилиан Эрделян, отец несчастной девушки, приехали вместе в коляске.
Пока Милица откашливалась от мутной речной воды, Радуле стоял в сторонке в ожидании развязки. Он сбросил мокрую одежду и закутался в белое покрывало, протянутое Симоной. Высокий красивый парень был похож на римского консула в тоге с широкой пурпурной полосой.
Милице Эрделян повезло. Ловкий парень спас красивую девушку. Совсем как в романтической пьесе. Наконец-то Радуле сыграл героическую роль. И сыграл замечательно, со знанием дела. Инстинктивно избавившись от образа несправедливо обиженного человека, слывшего неудачником, он немедленно переоблачился в будто скроенные точно по его мерке одежды героя. Человека, осиянного вечным светом веры и горячей любовью, не собирающегося в этом мире эгоистично цепляться за собственную жизнь как за единственную ценность.
– Ти храпрый парень, жалко, что Бранковича икраешь, – заговорщически подмигнув ему, произнес доктор Молнар.
– Храбрый сербиянец, ничего не скажешь. Ловкий парень. Храбрый, – как бы про себя констатировал Вайс.
– Приходи на ужин, герой. Огромное тебе спасибо, сынок. Она ведь у меня единственная, свет в окошке, – сказал старый торговец Эмилиан Эрделян, положив Радуле на плечо руку. На глазах у него выступили слезы.
– В пять репетиция, и чтобы без опозданий! – не преминула напомнить Магда, когда народ начал расходиться с дамбы.
Письмо Отечеству
Савич сидел за письменным столом. Три парафиновые свечи тихо горели в серебряном подсвечнике. Окно было открыто, и пламя время от времени вздрагивало, колеблемое воздухом, пробравшимся сквозь задернутые шторы.
Он писал:
Уважаемый Реля,
театр должен содержать в себе черты народного характера, и только так он сможет понравиться народу и благотворно повлиять на него. Что касается меня, то я отрекся от игры на сцене, но даже если бы я этого не сделал, мне все равно было бы очень тяжело играть на сербской сцене, потому что я слишком долго жил вне сербской среды. К тому же я не знаю нынешних обстоятельств в нашем обществе и его жизни, да и в немалой мере подзабыл сербский язык, а ведь актер, равно как и литератор, должен в полной мере владеть тем языком, на котором он создает свои духовные ценности.
– Пишешь? – спросила Луиза, тенью проскользнув в комнату.
– Да. Пишу письмо Реле Поповичу. Помнишь его?
Прекрасный человек и талантливый актер, – ответил Йован.
– Конечно, помню. Но мне гораздо больше запомнился другой, блистательный поэт Костич. Кажется, так его звали. Необычный молодой человек. Нервный, почти до безумия веселый, но такой привлекательный. Ему очень нравились веймарские женщины, – припомнила госпожа Савич.
– Как давно все это было, Луиза. С тех пор Лаза Костич написал много замечательных стихотворений. В нем великолепно сочетаются талант и поэтическое вдохновение, так что он создаст еще много прекрасных произведений. Надо бы мне написать письмо доктору Костичу, мы давно не общались, – ответил Йован.
– «Гордана», кажется так называется его новая пьеса? Я не ошибаюсь, Иоганн? – сказала Луиза, присаживаясь на диван.
– Да. «Любовь повстанца, или Гордана». Прекрасная пьеса, правда, несколько старомодная, – ответил жене Савич.
– Почему красота вечно становится жертвой времени?
– Красота – свист ветра во флюгере. Шум южного моря, к которому мы взываем зимними вечерами. Чувство, существующее только в нашей памяти.
– Ты всегда прекрасен, Иоганн. Прекраснее, чем в тот день, когда я впервые увидела тебя стоящим на Фрауэнплатц перед домом Гете. Но я не сразу влюбилась в тебя. Нет, это случилось, когда ты заговорил. Когда ты сказал: «АН my fond love thus do I blow to heaven»[4]. Твой голос очаровал меня. Вот и сегодня, мой милый…
Стены дрожали от пения Орфея, но и это чудо не помогло ему вывести свою любовь Эвридику из царства теней, куда она попала, скончавшись от укуса змеи в пятку. Савич тоже мог точно так же петь, декламировать, говорить, умолять богов подземного мира освободить ее, но он знал, что не выдержит этой предательской тишины, и потому непременно бы оглянулся, и тогда бы его возлюбленная исчезла. Навсегда.
– Прекрасно написанная, но несколько опереточная история, – вернулся Савич к началу разговора. – Тем не менее, постановка странной пьесы иностранного автора, независимо от того, насколько хорошо и умело она адаптирована, представляет определенный риск для всех, в том числе и для автора. Это характерно для Германии, как и для Франции, Британии, Италии… И, конечно, если автор не той национальности, которая по каким-либо причинам ныне популярна в мире. Жаль, дорогая моя Луиза, очень жаль.
– Прошу тебя, дорогой Иоганн, постарайся тактично объяснить ситуацию доктору Костичу. Нынче люди так чувствительны, – сказала Луиза Шталь, жена Йована Савича. Потом она с усилием поднялась с удобного дивана и зашагала к выходу из кабинета, придерживаясь рукой за мебель и стены. Ночные разговоры были для нее короткой передышкой в мучительной бессоннице, но давались с большим трудом. Однако Луизе Шталь удавалось время от времени, погрузившись на самое дно боли, оттолкнуться от него пяткой и вынырнуть, дерзко заявив госпоже Смерти, что она, упрямая, все еще жива.
– Да, Луиза, люди чувствительны, а мои сербы, похоже, никогда не будут в моде. Так уж оно сложилось, и никакие объяснения тут не помогут. Никому не нужна эта пьеса, как бы красиво и занимательно ни была бы она написана.
– Мне его драматургия очень нравится, наверное, потому, что ты мне так вдохновенно читал стихи Костича. Помнишь, мой милый мальчик? Ты декламировал пьесу в лицах. Это был прекрасный, неповторимый спектакль. Сыгранный только для меня, – вспомнила Луиза.
– Я помню, дорогая.
– Жаль, но в наших театрах, как и в человеческих сердцах, есть место для чего угодно, только не для красоты. «Nihil illigitamus carborundum». Я наслаждалась теми стихами.
– Если бы у меня появилась возможность, я бы поставил в Белграде или Новом Саде трагедию Костича «Максим Црноевич», которая настолько величественна, что приближается по духу к пьесам Шекспира, и я ничуть не преувеличиваю, поверь мне, – вздохнул Савич.
Луиза уже вышла из кабинета.
Савич все еще сидел за столом, глядя в пустоту элегантного портала над двустворчатой дверью с резными стеклами, за которым только что исчезла тень его возлюбленной.
– После премьеры «Короля Лира» отнесу текст Костича директору, пусть он прочитает его и примет решение. Это все, что я могу сделать, – произнес вслух Савич, после чего обмакнул перо в чернильницу и продолжил писать письмо.
Божьи шпионы и господа артисты
В кафе «У черного поросенка» и «Элит» на Шеллингштрассе царила обычная веселая атмосфера. Отмеченная оригинальностью многих художников, которые словно вешние воды слились в «Изарские Афины». Просвещенное меценатство королей Баварии превратило Мюнхен в центр культурной жизни Европы. Особенно живо было в квартале Швабинг и на Принцре-гентштрассе, но и во всей столице Баварии на исходе предпоследнего десятилетия XIX века установился интеллектуальный климат, который так нравился многим людям искусства. Они выбрали Мюнхен для жизни и творчества.
«Мюнхен блистал. Сверкающее небо, затянутое голубым шелком, распростерлось над импозантными площадями, белоснежными храмами с колоннадами, памятниками в античном стиле, барочными церквями, фонтанами, дворцами и садами Резиденции, широкие и светлые перспективы которых, окруженные зеленью и прекрасно рассчитанные, распростерлись в солнечной дымке первого прекрасного июньского дня».
Так описывали Мюнхен, переполненный «молодыми людьми, распевающими арии Вагнера, из карманов которых торчат литературные журналы». Современность владела ими.
Итак, необычное возбуждение царило в мюнхенских кафе, этих знаменитых местах нового времени. Кафе «У черного поросенка» уже некоторое время было любимым заведением молодых людей искусства. В отдельном зале сидели Мунк и Стриндберг. Художник и писатель познакомились в Мюнхене. Неподалеку от них, за длинным столом у окна несколько девушек пили полуденный кофе и громко спорили о пьесе Ибсена «Кукольный домик» и свободном выборе прически и одежды, подчеркивая завоеванную независимость и экзистенциальную самостоятельность. Художник Макс Либерман в одиночестве сидел у стойки, курил сигарету за сигаретой и время от времени зарисовывал графитным карандашом в блокнот некоторые впечатления. Русские студенты шумели в углу, возвеличивая Толстого, а в центре кафе как на сцене без стыда и совести дебатировали люди театра.
– Господа из Дворцового театра замыслили это серьезно и с амбициями, – начал разговор теоретик Алоиз Вольмут.


