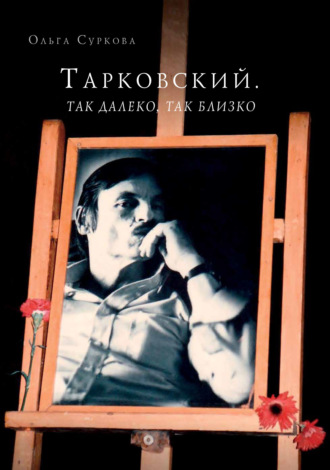
Полная версия
Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью
– Но если кинематограф, который вас привлекает, апеллирует всегда к образам самой действительности, к восприятию реально пережитого художником опыта, то в вашем новом фильме вас тоже должны интересовать прежде всего люди, их взаимоотношения, но не фантастическая среда, в которой они действуют. Какой же видится вам эта несуществующая в реальности среда, которую нужно измыслить?
– Конечно, действие «Соляриса» происходит в атмосфере уникальной, невиданной. Но наша задача состоит в том, чтобы максимально конкретизировать эту уникальность в ее чувственных, внешних приметах. Чтобы она была материальна, ощутима – ничего эфемерного, неопределенного, специально, нарочито фантастичного. Чтобы на экране были «мясо», фактура самой среды. Я против велеречивой, якобы что-то в «универсуме» обобщающей «поэтической» условности. Я всегда за конкретность атмосферы, среды, героя. Хотя в данном случае приходится столкнуться с той конкретностью, которой никто в глаза не видел и руками не щупал!
– Но тогда как должны чувствовать себя ваши актеры в атмосфере пока невиданного и неслыханного? Каким образом вы формулируете их задачу в таких непростых обстоятельствах?
– Я считаю, что решающим условием успеха актера в кино является его как можно более полное изначальное внешнее и внутреннее совпадение с изображаемым персонажем. Я стараюсь найти таких актеров на каждую роль, которые могли бы просто оставаться собой в предлагаемых обстоятельствах и не пытались что-то играть, придумывая какой-то образ. Боже упаси! Ведь именно кино предоставляет такую неограниченную свободу выбора, позволяя распорядиться практически неисчислимой «труппой» актеров, которых можно потом не «подправлять» всякими париками, наклейками или сложными гримами. Сделав свой выбор в таких райских условиях, не стоит затем искать возможности изменить выбранную тобой человеческую природу актера, если хочешь, чтобы он и впрямь оставался на экране собой в новых обстоятельствах жизни, а не кем-то другим, ни в чем на себя, настоящего, не похожим.
После того как актер утвержден на роль, я стараюсь предоставить ему на съемках как можно больше свободы, ровно столько, сколько он ее заслуживает: одни требуют минимального вмешательства, лишь общего определения данного, снимаемого куска, другие, напротив, ждут кропотливой работы с ними. Но и от актера – помимо режиссера – зависит очень многое. Он окончательно формирует образ, дает ему свою специфическую окраску. Более того, от актера в конечном счете полностью зависит результат, итоговое звучание образа.
– А как вы вообще относитесь к фильмам научно-фантастическим?
– Как правило, они меня раздражают. Например, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика мне кажется совершенно неестественной: выморочная, стерильная атмосфера, будто в музее, где демонстрируются технические достижения. Но кому интересно произведение, где технические достижения сами по себе стоят в центре внимания художника? Ведь искусство не может существовать вне человека, вне его нравственных проблем.
– Ваше искусство сильно прежде всего вашей лирической интонацией, вашим взволнованным ощущением русского пейзажа – и это волнение передавалось зрителю. Не боитесь ли вы, уйдя в атмосферу умозрительно сконструированную, вненациональную, утерять в себе что-то главное?
– Нет, потому что национальная принадлежность искусства не обязательно и не прямо связана с темой и характерами. Картина должна быть русской в самом отношении к той или иной проблеме, в разрешении ее, в следовании лучшим традициям русской демократической культуры. Я думаю, что даже рассуждая таким образом, я уже следую традициям русской литературы. В самом деле, когда Пушкин пишет своего «Скупого рыцаря», то что это меняет? Все равно это русская поэзия…
– И все-таки вы собираетесь разворачивать действие фильма не только в Космосе, но и на нашей Земле. Не можете с ней расстаться? Ведь в романе Лема действие происходит только на планете Солярис…
– Да, Земля мне нужна для контраста! Но не только для этого… Мне необходимо, чтобы у зрителя возникло ощущение прекрасной Земли. Чтобы, погрузившись в неизвестную ему дотоле фантастическую атмосферу Соляриса, он вдруг, имея возможность вернуться на Землю, снова обретал возможность вздохнуть свободно и привычно, чтобы ему стало щемяще легко от этой привычности. Короче, чтобы он почувствовал спасительную горечь ностальгии. Ведь Кельвин решает остаться на Солярисе и продолжать исследования, чтобы исполнить там свой человеческий долг. Вот тут и понадобится Земля для того, чтобы зритель полнее, глубже острее пережил вместе с героем весь драматизм его невозвращения на ту планету, которая была (и есть) его и наша настоящая родина.
Да. Несомненно. В «Солярисе» снова возникает мотив преодоления. Преодолевать должен, оказывается, не только герой, но и зритель. Для того чтобы пережить вместе с героем всю горечь его решения не возвращаться домой, зритель должен пережить вместе с ним всю притягательность нашего земного существования… В деталях! В оттенках! Чтобы соразмерить в своем переживании цену приносимой Кельвином жертвы.
Через некоторое время после публикации своего интервью в «Искусстве кино» мне удалось еще написать в те времена о «Солярисе» для ленинградского журнала «Аврора».
Земля… Солярис… Земля…
(Репортаж со съемок «Соляриса»)
Звенигород. Солярис. Токио. Вот точки, между которыми пролегли трассы съемочной группы «Соляриса».
Время действия фильма – столетие спустя…
Токио. Здесь в многоярусных автострадах, в сложных разъездных узлах и незнакомой нам архитектуре, в самой их «непохожести» на ставшее уже привычным можно в самых общих чертах предположить облик грядущих городов.
Звенигород. Здесь, близ Саввино-Сторожевого монастыря, на зеленой лужайке, обрамленной раскидистыми деревьями, на берегу пруда был возведен деревянный дом отца героя фильма, психолога Криса Кельвина. Это дом, в котором он родился и жил, который завтра ему предстоит покинуть на многие-многие годы, может быть, навсегда, чтобы лететь и остаться с научными целями на далекой и загадочной планете Солярис, чтобы решать дальнейшую судьбу «соляристики».
Солярис. Сама планета и ее искусственный спутник в виде космической станции неожиданно расположились совсем рядом с нами, с москвичами… в павильонах студии «Мосфильм».
Уже предвижу недоумение любителей научной фантастики. Они, конечно, прекрасно знают известного польского писателя-фантаста Станислава Лема и едва ли не самый странный его роман «Солярис». Но тогда какой такой «город» или «дом отца Криса Кельвина»? Откуда им было взяться в фильме, следующем за текстом романа? Что-то не припоминается такого читателям…
Потому что действие романа С. Лема разворачивается только на космической научно-исследовательской станции «Солярис». А эта вымышленная писателем планета представляет собой один сплошной Океан бурлящей, движущейся плазмы, которая существует в мироздании по каким-то неведомым людям законам. Так что все попытки установить с планетой доступный человеческому пониманию контакт уже давно остаются тщетными и безрезультатными. Особенно непереносимыми для тех, кто старается вопреки всему продолжать исследования, уже давно поселившись на станции и стараясь преодолевать там каждый на свой лад все более тяжелую депрессию, ощущение бессилия и глубокой растерянности перед новой реальностью.
Эта не совсем реальная «реальность» особенно осложняется странным, мутящим сознание обстоятельством появления на станции так называемых «гостей». Эти «гости» – точные копии, буквальные двойники тех людей, которые жили когда-то на Земле и с которыми были так или иначе не просто связаны наши герои, но перед которыми они чувствуют свою особенно глубоко тревожащую их вину. Так Крису Кельвину является или «приходит» к нему его жена Хари, много лет назад покончившая с собой…
Жители станции по-разному относятся к посланцам планеты, пытаясь научно определить, по каким все-таки законам материализуются в недрах Океана фантомы, так глубоко запрятанные в их душах и подлежащие, как хотелось бы, окончательному забвению. Роман Лема, кажется, привлек к себе внимание Тарковского прежде всего потому, что научные проблемы все-таки взаимодействуют в тексте с проблемами нравственными…
Но при этом кинорежиссер, экранизирующий сегодня этот роман, не хотел и не мог оставаться только внутри пространства, очерченного фантазией писателя, тесноватого в контексте мировоззрения самого Тарковского. Ему непременно нужно было разглядеть в далях времени облик наших «земных городов». Ему нужно было непременно утвердить в том грядущем будущем прежде всего вечную способность и обязанность человека помнить и как-то совсем по-особому ценить то вроде бы самое простое, что согревает нашу душу теплом и ранит ее мгновенной острой болью – родительский дом, Мать и Отец, запахи леса и поля… в солнечную и туманную погоду, в разгар дня или на его исходе…
Город будущего видится режиссеру и воссоздается им на экране в строгой, величественный панораме, чуть холодноватой в своем великолепии. Этот город – уже тот искусственный феномен со своими ритмами и особой эстетикой, который создается человеком с таким трудно вообразимым размахом. Подстерегающее нас и кроющееся вдали незнакомое будущее влечет к себе, но еще более волнует и немного пугает. Тарковский всматривается в город, созданный по последнему слову техники, отчасти заинтересованно, но скорее с опасливой неприязнью…
Еще бы! Ведь по сюжету сценария маленький мальчик, выросший в таком городе, будет рассматривать с недоумением и любопытством, оказавшись в старомодном особняке отца Кельвина, такую невиданную для него новинку, как лошадь… Так что придется объяснять обитателю урбанистического пейзажа, что лошадь – это не страшное, но доброе и умное животное, на котором в старину люди ездили и работали в поле…
А в доме отца Кельвина, выстроенного «точно по образцу дедовского» (сколь настойчиво тревожит Тарковского необходимость сохранения рода и традиции!), на подоконниках стоят, наверное, точно такие же, как у деда, простые стеклянные сосуды, наполненные прозрачной водой, с огромными охапками пока еще существующих полевых цветов. В таком доме должны жить поколениями: вырастать дети и умирать родители. Стены такого дома хранят следы общего семейного прошлого, и полки, и книжные шкафы, а ящики письменного стола набиты разными старыми бумагами, письмами, которые – все кажется – могут еще пригодиться… а сколькие сожжет Кельвин перед полетом на Солярис, прощаясь со своим прошлым… Но все-таки он захватит с собой дорогой его сердцу предмет, старую семейную видеопленку. Так что потом, оказавшись в чужих мирах, он сможет показать эту пленку странно явившейся ему там из небытия бывшей жене Хари, покончившей жизнь самоубийством, но заново и своевольно перевоссозданной Солярисом точной копией…
Как правило, научно-фантастические фильмы, разные и всякие по своему художественному уровню и философским концепциям, отмечены общим и одинаковым стремлением, как бы предлагаемым жанром, создавать на экране мир, как можно более непохожий на наш собственный, стараясь поразить зрителей изощренностью фантазии. Особенно в этом преуспевает американский кинематограф.
Тарковский принципиально и последовательно уходит от этой задачи. У него другие цели. Он хочет сосредоточить внимание зрителя на вечных проблемах, зреющих внутри человека в любом обществе, и технократическом тоже. А потому, не стараясь развлекать зрителя разглядыванием неожиданных и небывалых подробностей в кадре, он не устает повторять, что «все должно быть абсолютно доподлинным». Он, не смущаясь, настаивает на том, что на космической станции будущего ее обитатели продолжают пользоваться нашим обычным консервным ножом или пить то же молоко, что и земляне из тех же привезенных из дома чашек… Потому что для людей будущего, как и для нас теперь, это будут такие же привычные детали быта, не обращающие на себя никакого специального внимания.
Фильм о другом. Не о том, как изменится человек будущего, а о том главном, сущностным, что, по Тарковскому, сохранится в нем и в астральных просторах Вселенной, как бесценный дар, как та неразменная монета моральных ценностей, которой придется оплачивать свое право называться Человеком… Обозревая сложный и долгий путь к знанию, режиссер рассказывает не столько о ценности научных достижений, сколько об опасности духовных потерь, о нравственных противоречиях, сопутствующих жажде обладания вещным мира. Потому что, как настаивает Тарковский, человеку нужно прежде всего оставаться человеком в самых нечеловеческих условиях. И более всего человеку нужен человек, его тепло, любовь и забота, его понимание… И еще… Человеку останется нужна Земля…
Остается добавить, что фильм снимает Вадим Юсов, художник – Михаил Ромадин. Сценарий написан Тарковским совместно с Фридрихом Горенштейном. Криса Кельвина играет Донатас Банионис, его отца – Николай Гринько, друга отца, одного из первых исследователей Соляриса, Бертона – Владислав Дворжецкий, Снаута и Сарториуса, нынешних обитателей станции, – Юри Ярвет и Анатолий Солоницын, Хари – Наталия Бондарчук.
Из записных книжек
К сожалению, представленные здесь записи, которые я вела на съемочной площадке у Тарковского, находясь рядом с ним почти двадцать лет, не носят систематического характера. Только время от времени удавалось мне вырваться к нему от своей постоянной работы и разного рода бытовых забот. Теперь мне кажется, что таких записей катастрофически мало. И тем не менее мне все-таки удалось записать что-то из того, чему я была свидетелем, торопясь всякий раз с замирающим сердцем туда, где работал Тарковский, творя, по моему глубокому убеждению, наивысочайшее искусство.
Съемки «Соляриса» не были простой работой над какой-то очередной картиной – им предшествовал самый тяжелый период в жизни Андрея Тарковского после запрещения «Андрея Рублева». 5 лет безработи-цьй Можно себе представить, с каким внутренним трепетом все мы ожидали начала съемок.
Многие годы спустя «Искусство кино» в лице Тани Иенссен предложило мне напечатать свои дневниковые записки тех лет, связанные с Тарковским и его съемками, Впервые они были опубликованы в четвертом номере 2002 года, оказавшегося для Тарковского юбилейным. Ему могло бы тогда исполниться 70 лет.
Первый день съемок.
9 марта 1971 года
В павильоне «Мосфильма» выстроена декорация зала заседаний, в котором крупнейшие ученые мира собираются обсуждать проблемы планеты Солярис. Сегодня должны снимать выступление Бертона.
Тарковский очень суеверен: перед съемками первого кадра будущего фильма традиционно разбивается бутылка шампанского (так было «до» и так будет «потом» – всегда). В первом кадре для самого большого правдоподобия снимается настоящий американский журналист, завсегдатай московских салонов (позднее он был выслан из Москвы как «американский шпион», а кадры с ним, кажется, пришлось вырезать).
А вот и первый перерыв на тридцать минут!
Дворжецкий что-то судорожно записывает, кажется какие-то текстовые куски… Андрей это замечает, подозревая, что текст роли плохо выучен. Свое неудовольствие он выражает Маше Чугуновой, впервые заступившей на должность постоянного ассистента Тарковского по актерам, но та защищает своего подопечного: «Андрей Арсеньевич, Дворжецкий прекрасно знает свою роль, но он очень волнуется. Вот и переписывает».
Первый кадр у Тарковского после стольких лет – это что-то да значит! На площадке полно народу. Событие! Настоящее событие на студии! Я даже решаюсь сказать Андрею: «Поздравляю! Сегодня необычный день!» И получаю в ответ: «Да, нет, вроде бы обычный, будничный». Но лукавая улыбка и резкое движение головой выдают огромное возбуждение.
Начинаются съемки. Меняют положение камеры. В центре съемочной площадки Андрей объясняет исполнителям их задачи: что, кому, куда… просит припудрить лысину оператору-иностранцу, чтобы не слишком сияла в кадре. По площадке несутся указания: «уберите у Влада (Бертона-Дворжецкого) воду, я ее специально убрал, потому что весь его проход по залу строится на том, что он идет за водой. Ну, будьте же повнимательнее!»
Тарковский необычайно ценит достоверность деталей в кадре, тем более достоверность самих персонажей – не случайно он всегда настаивал на том, чтобы искать исполнителей по принципу максимально более полного совпадения актера и персонажа. Поэтому на эпизод международного симпозиума приглашены настоящие иностранцы – ради все той же типажной достоверности. А вот на столе заседаний, расположившемся в нашем далеком Будущем, опять же не случайно расставлены привычные для нас сегодняшние бутылки «Боржоми». За этим решением снова кроется та же принципиальная установка режиссера – не отвлекать внимание зрителей специальными атрибутами, поражающими и отвлекающими внимание зрителей, которыми щеголяют обычно постановщики, так называемых «научно-фантастических» картин. Нет! У Тарковского в кадре все должно быть привычно, как дома…
Пробы Аллы Демидовой на роль Хари
Тарковский объясняет Демидовой ее исполнительную задачу: «Алла Сергеевна, вы понимаете, что Крис вас не любит, но тем не менее ему важны ваши отношения. Хари – умная, а Крис – истерик. Она допускает, она согласна с тем, что Крис ее не любит, чтобы сейчас же его извинить…»
Это постоянная тема Тарковского о сути взаимоотношений мужчины и женщины, специально и специфически, чуть старомодно решаемая им на сегодняшний день. Женщине, по его убеждению, следует просто любить мужчину совершенно бескорыстно, понимая все его слабости и прощая их. Заметим, что именно о такой спутницей своей жизни Тарковский мечтал всю жизнь, часто, как мне кажется, не понимая и идеализируя реальность… В период своего романа с Ларисой он часто признавался о том, что его любимым стихотворением Пастернака является «Свидание», читая с особым смыслом следующие строки: «И в нем навек засело/Смиренье этих черт…», кажется всерьез полагая, что смирение является основополагающим качеством его будущей жены…
Демидова взвинчена, раздраженно определяя свое состояние «моторным» и идущим «от головы»… Мне кажется, что актриса играет сцену психологически чрезвычайно логично, последовательно и собрано. Можно представить, какие сложности могли возникать когда-то между ею и Крисом Кельвином. Однако Тарковский предлагает Демидовой: «Все, что вы сейчас делаете… нельзя ли теперь все это зашифровать?., спрятать логику, чтобы возникла органичность…» Демидова просит ей помочь, изменить мизансцену: «может быть, я могу тогда не раскланиваться с Сарториусом? А то возникает определенный ритм, вынуждающий меня к объяснению… все логика, лезет логика! – восклицает она в отчаянии. – Почему?»
Тарковский пытается ей объяснить: «Потому что вы нападаете, а не защищаетесь. Вы агрессивны. Под все ваше поведение должна быть подложена какая-то неловкость. Хари ощущает эту неловкость: ведь ею каждую минуту могут пренебречь, просто выгнать вон».
И последние наставления, прежде чем выключить мотор: «Все должно быть более болезненно, напряженно изнутри. Словом, действуйте как хотите, но только учтите, что мы все видим, все замечаем».
Текст второй пробы:
Хари, завернувшись в простыню, съежившись, сидела на кровати. Плечи ее тряслись. Она беззвучно плакала.
Что с тобой? – растерянно спросил Крис.
Ты не любишь меня, – сказала Хари.
Не говори так, просто ты устала. Тебе надо поспать.
Я никогда не сплю, – сказала Хари. – Мне кажется, что я никогда не сплю, то есть, может, и сплю, но это не настоящий сон…
Перестань, – сказал Крис.
Нет, – сказала Хари, – мы долго не виделись с тобой. Как ты жил все это время? Ты любил кого-нибудь?
Не знаю, – тихо сказал Крис.
А обо мне ты помнил? – спросила Хари.
Помнил, но не всегда, – сказал Крис, – только когда мне было тяжело.
Позднее, как известно, на эту роль была утверждена не Демидова, а Наталия Бондарчук.
Съемки в здании СЭВ
Тогда это было наиболее современное здание в Москве, построенное по внешней форме, как раскрытая книга, и казавшееся тогда «чудом новой современной архитектуры». Словом, в Москве возникали элементы нашего города Будущего… Так что именно здесь продолжаются досъемки нескольких кадров из сцены в «Зале заседаний», в котором обсуждаются проблемы планеты Солярис.
На съемочной площадке я застаю оператора Вадима Юсова и художника картины Михаила Ромадина. Они руководят подготовкой к съемкам в так называемом мраморном фойе клуба СЭВ. Появляются Маша Чугунова и Баграт Оганесян, который играет французского ученого Тархье. (Это один из немногих учеников Тарковского – впоследствии ставший режиссером, – которому Андрей пытался покровительствовать. (Его хороший фильм «Дикий виноград» сделан не без влияния «Иванова детства».) Бежит Андрей Арсеньевич. Он всегда пунктуален и в этом смысле прямо противоположен своей второй супруге. И, как всегда, элегантен и даже щеголеват – в дубленке, на голове кокетливая клетчатая кепочка – и сразу, с ходу, врезается в происходящее: «Пиджак Баграту маловат – как же вы меряли?» Обращаясь к художнику по костюмам Неле Фоминой: «Неля, придется съездить на студию за другим пиджаком, а мы пока разведем мизансцену».
Разводить мизансцену приходится со всей тщательностью. Каждый кадр «Соляриса» снимается в одном (!) дубле, так как «Мосфильм» выделил Тарковскому очень ограниченное количество пленки «Кодак». На приобретение дополнительных метров этой вожделенной пленки будут позднее использованы командировочные поездки в Японию, где группа снимала проезды по туннелям и автострадам города Будущего.
Один из администраторов предлагает Баграту другой пиджак, но он тоже оказывается ему мал. Так что придется все-таки Неле ехать в костюмерный зал студии. Зато часы с цепочкой, которые должны быть в комплекте костюма Баграта, одобрены Тарковским.
Теперь он обращается к Юсову: «Нужно, чтобы актер прошел, не ограниченный крупным планом. А то получится, как на телевидении». Юсов возражает: «Но здесь ходить негде!» К его мнению присоединяется Ромадин, которого к тому же не устраивает фактура стен. Андрей говорит сдержанно, но строго: «Когда я прошу, надо выполнять точно». Он садится в кресло, закинув ногу на ногу – его любимая поза, – делает пометки в сегодняшнем плане. Юсов смотрит в глазок камеры, намечая предстоящую съемку.
Сегодня Андрей настроен весело-иронически. Необычайно нежен и игрив с Багратом, подбадривает его: «Все нормально получится, у тебя хороший, веселый глаз… Уж если даже в «Рублеве», сидя на лошади, ты сумел играть!»… (За неимением достаточного количества подлинных иностранцев Баграт снова задействован в этой картине. В «Рублеве» он изображал заморского испанского гостя в крошечном эпизоде сцены «Освящение колокола»).
Теперь выясняется, какими неустойчивыми оказались кресла, так что приходится подставлять под них щиты. «Как в зубоврачебном кресле», – со специфически ироничным хохотом комментирует Тарковский.
Обсуждается вопрос, держать ли Баграту в зубах сигару. Юсов возражает вполне серьезно: «Наверное, это будет невежливо. Речь идет о будущем, а чем дальше, тем люди будут культурнее». Однако Тарковский придерживается противоположного мнения: «Культурнее? В этом я совсем не уверен». Он объясняет Баграту характер его персонажа: «Ты понимаешь, Тархье хочет сказать в своем выступлении, что все мы сумасшедшие. Но, будучи интеллигентным человеком, он остерегается заявить это прямо и грубо. Он как врач, который констатирует диагноз».
Оказалось, что Баграт не знает текста и его теперь нужно разучивать прямо на площадке. Андрей страшно огорчен, скучает, время от времени ругает второго режиссера Юрия Кушнерёва. Но на Баграта его раздражение не распространяется. Хотя милый Баграт изначально неловок и запинается в тексте, как армянин, не до конца владеющий русским языком, и как непрофессиональный актер, но Андрей остается с ним бесконечно терпеливым и мягким. Уж, любить, так любить!
А за огромными окнами «города будущего» поздняя московская зима, «москвичи и гости столицы» в зимних шапках-ушанках и тюбетейках. Тарковского уверяют, что задний план не будет читаться в кадре. Тарковский мечтательно соглашается: «Будет все загадочно… автомобили будут ехать…»
(Мне кажется, что этот кадр не вошел в фильм. Усилия съемочной группы не в счет, но зря использованный «Кодак»! Впрочем, может быть, его не использовали в черно-белых кадрах заседания? Я тогда не спросила!)

