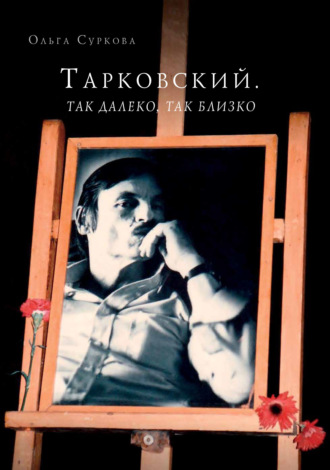
Полная версия
Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью
16 июня 1971 года
«Я сегодня впервые доволен снятым кадром, потому что он в меру нелепый, – этим заявлением встречает меня на площадке Тарковский. – Но вообще-то декорация плохая: видно, что это липа! Надо снимать черно-белые картины! Следующая картина будет непременно черно-белая и на маленьком экране».
Снимается сцена в комнате Снаута, которого играет прекрасный актер Юри Ярвет. Лариса привезла его из Ленинграда, где он снимался в главной роли в козинцевском «Короле Лире». Тарковский кажется почти трогательно влюбленным в Юри Ярвета, но с Донатасом Банионисом, исполнителем роли Криса, главного героя картины, его отношения в процессе съемок складываются не лучшим образом. «Хватит, Донатас, выступать! Надо быть попроще», – упрекает Тарковский Баниониса, который буквально нарасхват у корреспондентов. Андрей считает, что слава Баниониса мешает ему расслабиться и органично войти в образ, то есть стать только послушной глиной в руках режиссера, по-детски ему доверившись.
Снимается сцена: Крис заходит в комнату Снаута и замечает, что там в гамаке, оказывается, притаился его «гость» – ребеночек, то есть некий фантом, материализованный планетой Солярис. Тарковский обращается к Ярвету: «Ваша задача состоит в том, чтобы скрыть ребеночка от Криса, который неожиданно вторгся в ваше тайное пространство, но не должен видеть в нем странного пришельца. Поэтому вы стараетесь выпроводить, вытолкнуть Криса из своей комнаты в коридор. Но наша камера будет идентифицирована со взглядом Кельвина, у которого точно зафиксировалась ваша комната».
Мальчик лежит в гамаке. Юсов смотрит в камеру. Мальчик повернулся, и в кадре фиксируется его ухо. Ухо! Андрей зацепился за эту идею. Он возвращается к ней несколько раз.
(Так родился в тот день один из самых загадочных и емких в смысловом отношении кадров будущего фильма «Солярис». Сколько раз Тарковский потом повторит, удовлетворенный своей проверкой меня «на вшивость»: «Тот, кто не понимает этот кадр, вообще ничего не понимает в моем кинематографе».)
18 июня.
Второй приход Кельвина к Снауту
В декорации комнаты Снаута создана атмосфера захламленности и запустения, которая должна отражать внутреннее состояние ее хозяина: на пульте управления, являющем собой чудеса техники, самые будничные приметы вполне современного быта, вроде початой бутылки армянского коньяка. Для Тарковского принципиально, чтобы в так называемом «научно-фантастическом» фильме все казалось обыденным, привычным и легко узнаваемым.
Поэтому взгляд останавливается на простом стакане молока, тоже затерявшемся в комнате Снаута на далекой орбитальной космической станции, – на стакане молока, столь часто возникающем в фильмах Тарковского, чтобы заставить нас всякий раз возвращаться памятью в детство, к матери, к своим вполне земным родовым корням.
Пока идет, как всегда, затянувшаяся подготовка к съемкам, Банионис засыпает в декорации на одной из кроватей. Заметив это, Тарковский занервничал: «Маша, разбудите Баниониса. Он проснется вот с такой “будкой!” Он отечет, это факт!»
Андрей разгуливает в декорации, хозяйским глазом окидывая свои владения. Обращается с вопросом ко мне: «Вам нравится библиотека?» «Библиотека» – это центральная, гостиная комната станции «Солярис», где разворачиваются ключевые сцены фильма. В этой комнате собраны великие книги и репродукции – реликты исторической и художественной памяти землян, идентифицированной Тарковским Венерой Милосской, Рублевской «Троицы» и картинами Брейгеля. Декорация приводит меня в восторг, но Тарковский, оказывается, недоволен: «Нет, так снимать нельзя!» Не поняла, почему.
Начинаются съемки. Тарковский старается убрать у Баниониса некоторую специфически актерскую преднамеренность в речи. Для этого он предлагает самую элементарную бытовую задачу: «Ты ешь, ешь сосиску! Потом пей молоко, а потом начинай понемногу говорить. А то мы что-то слишком мудрим». И Тарковский хохочет, демонстрируя, как они «мудрят», стараясь, быть «глубокомысленными». «Но ты все-таки пьешь молоко, – продолжает Тарковский, – так что машинально оцениваешь, что же ты все-таки пьешь, чтобы у нас не было ощущения, что ты пьешь что попало… А дальше за нас работает физиология». Тарковский делает особое ударение на последнем слове…
Юсов, подтрунивая над страстью Тарковского к самым мелким деталям, обращается к нему с шутливым упреком в ответ на замечание, что одна из банок «читается» в кадре слишком «прямолинейно»: «А я специально готовил именно такую банку, а ты говоришь, что она “прямолинейная”». Все хохочут.
19 июня
Должен был сниматься проход Снаута и Кельвина через коридоры станции в лабораторию. Но, оказывается, изменен весь порядок съемки эпизодов.
Крис крадется по коридору, оглядываясь: не преследует ли его снова Хари? Этому проходу предшествует его попытка избавиться от своего фантома: Крис только что посадил Хари в космическую ракету и выстрелил ею в пространство. При этом он обжегся, но шрамы и следы его ожогов мы также видим на лицах его коллег, заставляя предположить, что они тоже пытались сходным образом избавиться от своих фантомов, фантомов, как материализованных Солярисом образов собственной совести.
Толе Солоницыну, исполняющему в этом фильме роль сухого ученого-технократа Сарториуса, выданы прекрасные импортные дымчатые очки в изысканной оправе. Но Тарковский и Юсов возражают. «Толя, ты в них выглядишь как детектив, нужно что-нибудь попроще, – объясняет Андрей. – Я не хочу, чтобы была модная оправа, потому что модное быстро устаревает, становясь старомодным».
Тарковский вместе с Юсовым подготавливает съемку сцены в библиотеке. «Вадим, это должен быть красивый симметричный план!» Юсов, как всегда, сдержанно-ироничен: «Красивый план – это как получится, а симметричный снять в кривой декорации мы не сможем». Дело в том, что декорация космической станции «Солярис» выстроена точно раковина, закрученная по спирали.
Толя Солоницын, наблюдая скрытые и явные пререкания режиссера и оператора, делится со мной своим огорчением, вспоминая, какой удивительно спаянной была съемочная группа, работавшая на «Андрее Рублеве». А на «Солярисе», увы, уже нет ничего подобного. Я тоже чувствую в отношениях некоторую нервозность. Юсов еще не нашел тот общий принцип съемок, который решит целостный изобразительный образ фильма. В их общении с Тарковским часто проскальзывает взаимная агрессия. И если Андрей говорит о Солоницыне: «Ой, какой он носатый из-за этой оптики», то Юсов немедленно возражает: «Но это же Сарториус, почему мы должны делать из него красавца?»
Тем не менее Андрей мелькает на площадке то здесь, то там, прикидывая с помощью визира точки съемки, ищет границы кадры, возможную мизансцену для Сарториуса – осваивает павильонное пространство. По-детски откровенно радуется, когда находит то, что ему нужно. Наконец съемки панорамы прохода Снаута и Криса подготовлены. Андрей просит Юсова дать ему посмотреть в глазок камеры. Он всегда любит сам заглянуть в камеру, что многих операторов раздражает. На этот раз Тарковский удовлетворен: «Красиво, очень красиво!» Теперь он дает психологическое и смысловое обоснование ритма, в котором должна сниматься эта сцена: «Понимаешь, эта панорама к двери должна быть как выжидание, а не как испуг увидеть там непременно что-то страшное». Но в этот момент Тарковский замечает, увы, неполадки в костюме Криса, и все скопившееся напряжение обрушивается на костюмеров: «Профессионализм заключается в том, чтобы все видеть и все замечать вовремя».
Нет, сегодня нервничают все.
22 июня
На стол водружается настоящий коньяк: в библиотеке сегодня должен произойти один из самых важных разговоров между Крисом, Снаутом, Сарториусом и Хари. Снимается сцена, в которой Хари, этот фантом, посланный Солярисом Крису, проявляет свою вполне по-человечески страдающую сущность, вступая в полноценный диалог с людьми.
Тарковский объясняет Банионису его задачу: «Ты удивлен, потому что она впервые становится неуправляемой, она проявляет свою волю и свое понимание вещей».
Наталия Бондарчук прикидывает первые фразы: «Я понимаю… Я не считаюсь…»
Сарториус яростно защищает свою позицию строгого рационалиста, не желающего разделить с Крисом Кельвином его слишком мягкотелую точку зрения интеллигента, лишь расслабляющую и обезоруживающую человека в изучении космоса. Он нападает также на раскисших и, как ему кажется, излишне лирически настроенных коллег, демонстрируя им свою непреклонную решимость расставить все по своим местам. Для этого он заявляет Хари, что она «не женщина и не человек», призывая Криса и Снаута все-таки постараться «что-нибудь понимать, если вы еще вообще на это способны?!»
Тарковский продолжает объяснять сначала Банионису его задачу: «Вот сейчас ты смотришь на Хари, которую в этот момент предаешь, потому что не даешь Сарториусу по морде». А затем обращается к Солоницыну: «Мне не нравится, как и каким образом ты решаешься высказаться. Сейчас ты им просто хамишь, а хамства здесь не нужно, потому что ты сам страдаешь. Ведь ты считаешь, что упускаешь Криса, который гибнет у тебя на глазах. Боятся ошибиться все присутствующие, промахнуться, сделать какой-то роковой неверный шаг. Поэтому за каждым словом ощущается дикая скованность. А ты – перекуренный безумный человек, понимающий, какая на тебе лежит ответственность… Вот Ярвет – молодец! Он волнуется только тогда, когда текста не знает, – смеется Тарковский, – а в остальном ему до фени, у кого сниматься».
Пока готовятся съемки следующего кадра, разговор заходит о Феллини. «Единственное, что я у него люблю, – это «81/2». Чрезвычайно трогательная картина». При этом на одно из предложений, высказанных Банионисом, Тарковский отвечает: «Я хочу, чтобы в фильме все было совершенно реалистично, чтобы ни в коем случае не было никаких сновиденческих композиций». Тарковский нервничает, что слишком долго готовится перемещение точек съемки. «Все какие-то дохлые, вялые», – ворчит он.
Уже десятый час вечера, все устали какой-то общей объединяющей усталостью. Каждый занят своим делом в ожидании команды «мотор». Фотограф вклеивает в альбом уже готовые фотографии. Маша, как всегда, больше всех суетится на площадке – то подставляет Андрею стул, то проверяет текст у Баниониса. Он сосредоточен. Бондарчук тоже сосредоточена на работе, но она явно устала. Рабочие, которым в данный момент делать нечего, в изнеможении расположились в креслах.
И вдруг понимаешь, что весь этот разброд на площадке объединяется неожиданно возникшей атмосферой уюта и дружеского, почти родственного тепла и соучастия в чем-то общем и важном. «Как цыганский табор», – резюмирует Андрей. Он стесняется таких моментов своей публичной расслабленности и старается, скрывая внутреннюю радость, снять патетику иронией.
В этот момент на съемочную площадку пытаются вторгнуться иные «пришельцы». Второй режиссер Юра Кушнерев сообщает, что двое азербайджанских сценаристов просят разрешения присутствовать на съемках. Этого Тарковский обычно не любит, посторонние на площадке ему мешают. Кроме того, он боится лишних разговоров и преждевременных умозаключений, предваряющих для него всегда непростой выход картины на экран. Поэтому, как обычно, Андрей отвечает: «Если удобно, то, пожалуйста, откажите. Скажите, что сегодня у нас очень сложные съемки».
6 июля.
Самоубийство Хари
Сегодня Андрей преисполнен беспокойства об актрисе Бондарчук, исполняющей роль Хари. У нее трудный, физически неприятный грим и костюм «замороженной» героини, которая пыталась отравиться жидким кислородом, а теперь на глазах у Криса должна снова мучительно регенерироваться к жизни.
«Донатас», – кричит Маша, разыскивая в декорации Баниониса. «Пожалуйста, без криков, а то, как в лесу, – немедленно раздражается Тарковский. – И вообще лучше бы Наташу пожалели: ведь когда снимали сцену в библиотеке, то там было полно дублеров, старички по пять рублей получали. А сегодня у нас такая тяжелая сцена, и никого!»
Донатас в трусах и потертой тужурке на голое тело, так как событие происходит ночью, и он только что вскочил с кровати, недоумевает, оценивая свою задачу в кадре: «А как же я ее переверну? Она для этого должна иметь ось, как шашлык!»
Да. «Воскресение Хари» снимается технически очень сложно: пока операторская группа прилаживается к съемкам кадра, актриса лежит на полу. Андрей кричит на осветителей: «Ну что же вы пиджаком лезете актрисе в лицо?!» Гример начинает подкладывать под голову Хари огромный глаз, нарисованный на бумаге и обрамленный клееными, как бы настоящими, ресницами, сделанными из волос. Хотят добиться в изображении зеркального отражения одного глаза в другом, как это задумано Тарковским в момент перехода, перевоплощения Хари из одного мира в другом. «Братцы, ну немыслимо так долго все это делать. Либо нужен дублер, либо все это прекратить! – теперь Андрей адресует упрек непосредственно съемочной группе: – Надо все делать быстрее раза в три».
Впервые я слышу, как возникает серьезная перепалка между Тарковским и обидевшимся Юсовым. Мне тоже кажется, что все происходит слишком уж медленно. Юсов кажется немного флегматичным, но, с другой стороны, он вынужден делать все кропотливо, наверняка – ведь картина снимается без дублей! Немыслимо! Андрей дергается, бегает по площадке, бесконечно снимает и надевает кепку. С болезненным напряжением следит за Наташей, волнуется, жалеет ее: «Не ходите рядом с лицом актрисы, она ведь ложится сюда, неужели это еще нужно объяснять?»
В это время на площадке появляется гример с банкой клюквенного варенья – решено, что это самое лучшее средство изобразить запекшуюся кровь у Хари в уголке рта. Андрей хлопочет: «Положите, пожалуйста, только одну ягодку. – И, разглядывая результат, впервые за этот день, кажется, удовлетворенно констатирует: – Вот это хорошо!»
Наконец кадр снят. Бондарчук помогают встать с пола, она с трудом приходит в себя. Тарковский продолжает выяснять отношения с Юсовым: «Ты что же думаешь, что чем дольше ты будешь готовиться к съемкам, тем лучше? Я-то думаю, что только хуже». «Надо снимать качественно!» – как бы бесстрастно парирует Юсов, из последних сил стараясь подавить в себе раздражение…
В перерыве мы едим всякие вкусности, которые приволокла из дому Лариса. После того как все отругались и отъелись, на площадку опустилось всеобщее благодушие.
Пока готовится съемка следующего кадра «оживания», Андрей объясняет Наташе ее актерские задачи. Но вот образовалась свободная минута, и Андрей рассказывает мне сценарий, который они то ли пишут, то ли собираются писать вместе с Фридрихом Горенштейном, совместно с которым был написан сценарий «Соляриса». «Там будет такая сцена: монах вернулся с того света, и его спрашивают, как же там? А он отвечает, что все там точно так же, как и здесь, только разница в том, что когда ступаешь, то следов твоих совершенно не видно, они тут же выравниваются, как-то заполняясь изнутри, точно по мху идешь. Вот это мне очень нравится, потому что здесь фиксируется процесс, понимаешь?!»
Я пошла за тетрадью, надеясь на более подробный рассказ о сценарии, но Андрей за это время переключился на более насущные проблемы: удобно устроившись в гамаке, подвешенном в комнате Снаута, он обращается к своей жене: «Лариса! Мы можем приобрести такой гамак? Я буду в нем дома спать». При этом он, точно ребенок, убежден, что Лариса все устроит и сможет достать ему ровно такой же гамак: «Лариса, я хочу такой!»
Костюмерша напевает Тарковскому колыбельную, и его лицо освещается счастливым блаженством. И вдруг, неожиданно резко обратившись ко мне из этого гамака, жалуется: «У меня отвратительное настроение!»
5 августа
Кельвин выходит из космического корабля. «Присолярисование» – по аналогии с приземлением. На верхней площадке павильона обгоревшая головка космического корабля, алюминиевый пол. Открывается дверь – внутри кабины кресло. Как трудно и страшно, наверное, нестись в такой закупоренной капсуле. И куда?
Момент, когда корабль опускается, его окутывает густой, тяжелый дым.
Теперь мы переходим в коридоры космической станции «Солярис». Андрей непрерывно бросает пред собой мячик, то ли шутя, то ли играя. Но оказывается, что не то и не другое: «Я все понял: вот как он должен катиться».
В этот момент вдали, в коридоре возникает Толя Солоницын в белом халате. Изображая маниакальную сосредоточенность Сарториуса на своих опытах, Толя несется на нас, словно ничего не замечая. Андрей хохочет: «Толя, не юродствуй! Тоже мне, доктор Айболит с развевающимися полами!»
Андрей старается потрогать каждый винтик и шпуньтик «космической станции», будто ребенок радуясь, если ему удается что-то по-настоящему крутануть. Увы, но вся таинственная техника будущего – лишь чистая бутафория!
6 августа.
Монтажная № 431 на «Мосфильме»
В монтажной как раз перерыв на обед. Тарковский ест булку, запивает ее кефиром, не прерывая разговор со своим постоянным монтажером Люсей Фейгиновой: «Вот мы любуемся с тобой этим монтажным стыком, а ведь, по существу, он совершенно бессмысленный. Нужно монтировать из того, что есть, и уж лучше выбросить лишний материал, чем доснимать».
В одном месте кадр вздрагивает, потому что пошатывалась камера. Размышляя, как скрыть брак, Тарковский говорит: «Скажем, падает стакан, а потом все трясется, а? Как будто бы это все специально. Еще критики будут писать, отчего это так?» Но Юсов не склонен к авантюрам: «Нет, так нельзя. Получится “боевой” монтаж на спокойных кусках». «А что же делать? Так снято!» – не удерживается Тарковский, чтобы не подковырнуть Юсова. Обращается ко мне: «Знаешь, как я хочу это озвучить? Чтобы у Криса были шаркающие шаги по металлу. Хари будет ступать беззвучно, ее шаги мы не будем озвучивать. Звук великое дело!» Тарковский и Юсов начинают строить друг другу рожи, и вдруг Тарковский признается: «Иногда так жалко материал, просто не знаешь, что выбрасывать.
А вообще, очень важно во время съемок с утра сидеть в монтажной – это с материалом очень сближает».
Вот и сегодня он просматривает отснятое. В кадре качается склянка, из которой отравилась Хари. «Пусть до-о-олго качается», – комментирует Тарковский. В следующем кадре, появляющемся на мониторе в монтажной, закоптелый космический корабль, проделавший гигантский путь на орбиту Соляриса. Крис выходит из корабля. «К сожалению, в этом ракетодроме совершенно нет ощущения масштаба», – огорчается Тарковский.
Наверное, поэтому этот кадр не вошел в будущий фильм.
13 августа.
Невесомость
Специальной машиной стул приподнят над землей. Над ним подвешена полураскрывшаяся книга. Все медленно кружится в воздухе, будто плывет. В следующем кадре Крис стоит перед Хари на коленях, один подсвечник с горящей свечой – на стуле, другой валяется рядом на полу. Только книга продолжает свое парение в воздухе. Хари наклоняется и целует Кельвина в голову, прислоненную к ее коленям.
На съемку двух этих кадров ушел весь съемочный день. Андрей нервничает: «Снимаем по два кадра в день. Студия уже в отчаянии».
23 августа.
Натурные съемки в Звенигороде
Приехала в Звенигородский монастырь, где расположилась съемочная группа. Натура для «Соляриса» отыскивалась в тех местах, где Мария Ивановна, мать Тарковского, в его детстве снимала летнюю дачу для своих детей.
Но и здесь, как все время происходит на этой картине, все не готово, все не вовремя. Достаточно сказать, что даже самому Тарковскому негде жить. Да и декорация дома Кельвина, которую строят едва ли не год, оказывается, все еще не закончена. Зато само место, выбранное для строительства декорации, кажется мне исключительно удачным – тихая красота, лес вокруг, заросший пруд, мостик, облицованный для съемок жестью. На солнце он искрится странным светом. И все это рядом с Саввино-Сторожевским монастырем – уж монахи-то знали, где селиться. Кажется, сам Господь благословил эти места, до сих пор еще не изуродованные цивилизацией.
Мне страшно повезло: Андрей оказался на площадке совершенно один, очень разобиженный на художника картины Мишу Ромадина, который к его приезду был, мягко говоря, нетрезв. Тем более что объект для съемок все еще не доведен до кондиции. То есть повезло в этой ситуации только мне лично, так как Тарковский начал демонстрировать мне возможные точки съемки, воодушевляясь, я бы даже сказала, вдохновляясь все больше и больше. Он словно заражался окружающей его красотой, возможностями, таящимися в натуре, которые ему предстояло выявить в изображении, «запечатлеть» на пленке.
«Смотрите, я вам покажу!» – слышу я обращенное ко мне щедрое предложение. Тарковский неутомим в своем желании оглядеть, «огладить» взглядом каждый уголок распахнутого ему навстречу сокровища. «Посмотрите на мост – ну что за чудо!» Подоспевший к этому моменту внешне более размеренный Юсов дает вполне прозаический комментарий: «Но мы для этого его и облицовывали».
Я делюсь с Андреем своим впечатлением: «Мне кажется, что вам следует все фильмы снимать только на натуре. Я вижу, как она вас преображает и воодушевляет. Вы точно прозреваете здесь другой мир». Но получаю от него неожиданный ответ: «Я мечтаю весь фильм снять в павильоне и только на крупных планах». Вот тебе и на! Впрочем, какой великий комик не мечтает стать трагиком?!
Подошли еще несколько человек, и мы начинаем жарить шашлыки. Андрей неугомонен: то прыгнул на какой-то ветхий плот, причаленный к мостику, то неожиданно высовывается из окна заброшенной избы, завывая диким голосом: «Стра-а-ашно?» В такие моменты в нем просыпается что-то совсем детское и бесконечно обаятельное.
Работы, то есть съемок, пока нет, и мы просто болтаем о том о сем. Тарковский смеется: «Донатас ужасный зануда. Обожает поговорить “за искусство”. А я с ним не разговаривал и двух минут – он этого никак не может пережить. Все приставал ко мне, чтобы я показал ему снятый материал, а я этого не хочу. Потом он все-таки умудрился посмотреть малюсенький кусочек и тогда отстал от меня, заявив: «Делайте как хотите!»
Актерам, привыкшим работать в классической, академической манере, с Тарковским нелегко. Он не любит рассуждать о «сверхзадаче» сцены, о логически вычерчиваемой судьбе персонажа. Он любит актеров-детей, послушных, возбудимых, которые легко впадают в нужное ему состояние, не настаивая на «умных» разговорах о главной идее снимаемого фильма. Таким актером он считает Толю Солоницына, которого любит как своего ребенка, и разговаривает с ним неизменно нежно и чуть снисходительно. Таким актером он считает Николая Гринько, тоже его постоянного любимца. На этой картине Тарковский еще в упоении от Юри Ярвета, который только что прославился на всю страну, играя короля Лира у Козинцева, а в жизни оказался человеком очень естественным, органичным, глубоко чуждым всякого позерства, к которому, увы, так часто бывают склонны известные актеры. Надо сказать, что Ярвета приволокла из Ленинграда Лариса!
Во время шашлыка я сказала Андрею, что собираюсь поступить в аспирантуру и делать диссертацию о шведском кино, на что он ответил мне риторическим вопросом: «А кто же будет заниматься советским?»
24–27 августа
Меня, как говорится, завезли на эту «натуру» и бросили. Никого из группы нет. Живу в монастыре одна. К вечеру заезжает Ларка, кажется только для того, чтобы поесть…
(«Солярис» чуть было не развел Тарковского с Ларисой, только незадолго до этого в связи с рождением сына обретшей статус законной супруги. Но Тарковский был уже влюблен в Наталию Бондарчук, хотя Ларисе удалось вернуть его себе, используя последний аргумент: она пригрозила, что Тарковский рискует никогда не увидеть своего сына. Это была серьезная победа, придавшая ей еще большую силу и уверенность в себе. Как-то в перерыве на съемочной площадке Лариса поделилась со мной своими «достижениями»: «Я могу внушить Андрею все что угодно». И, увы, кажется, это чистая правда.)

