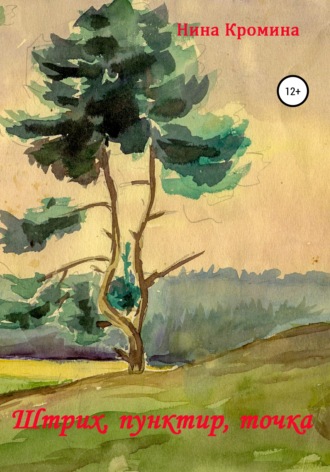 полная версия
полная версияШтрих, пунктир, точка
Виктор Петрович был талантливый, беззаветно любил литературу, считал её делом своей жизни.
В романе «Время незамеченных людей» приблизился к вершинам русской прозы».
Евгений прочитал один из самых сильных в романе отрывков: эпизод с крещением младенца и спасением еврейских детей на украинском хуторе…
Потом говорили об Игоре Чичилине…
Совсем другой талант. Писал и прозу, и стихи, и пьесы…
***
Однако вернусь к временам более ранним, когда всё начиналось.
Нельзя не вспомнить преподавателей ЛИТа!
Перечень запомнившихся имён мало что может дать читателю. Для меня же – в каждом – своё неповторимое Назову несколько.
Станислав Бемович Джимбинов. Потёртый портфель с грудой книг. Экскурсы в зарубежную литературу нового времени.
Карпушкина Людмила Александровна. По-новому о хорошо знакомом. Русская классика.
Сергей Андреевич Чередниченко. У нас он читал современную русскую литературу. Обучил нас приёмам медленного чтения, у него я пыталась овладеть мастерством критика.
Сохранился в памяти Алексей Константинович Антонов. В 2009 году болезнь ещё не скрутила его, и он читал прекрасные, запоминающиеся лекции. Иногда свои стихи, очень тонкие, неожиданные, пронзительные.
Несколько раз бывала на занятиях его кружка «Белкин». Остался в памяти один из них, всё в том же 2009-ом. Ноябрьский праздник совпал с днём кружка, но, почему-то не подумав, что и в ЛИТе праздник, а, следовательно, выходной, приехала на Большую Бронную. Всё темно и глухо, но охранник, услышав мои объяснения, пропустил. У входа во флигель, где размещалась Приёмная комиссия, стояла группа, человек пять. Среди них – Алексей Константинович. Нашли аудиторию с незапертой дверью и приступили к обсуждению рассказа. Автор, женщина лет сорока, прочитала рассказ, в котором некто поднялся на чердак, дабы завершить там свои печальные дни с помощью верёвки. Здесь же, на этом чердаке, умирала старая кошка. Автор так умело сплела их судьбы, что, наверно, не у одной меня – мурашки по коже. Антонову рассказ понравился, однако, он счёл, что в финале кошечка должна смотреть в чердачное окно и видеть солнечную лужайку, над которой вьются пчёлки. Этот совет удивил меня, но позже, уже немного поднаторев в литературных исканиях, кажется, я поняла в чём кредо нашего наставника и иногда следовала ему.
Таким получился и один из моих первых рассказов «Скворцы прилетели», получивший диплом лауреата Платоновского конкурса Литинститута в номинации «Сокровенный человек». Этот рассказ Алексей Константинович нашёл очень удачным, о чём часто говорил мне.
Последние встречи с ним, уже после окончания ВЛК, были печальными, поскольку он тогда уже сильно болел. Как-то, подходя к институту, где я продолжала набивать шишки на Курсах литературного мастерства, у проходной случайно встретилась с Алексеем Константиновичем. В то время о нём ничего не было известно, то ли уехал, то ли умер. И вот он – живой, глаза с весёлыми искорками, радуемся взаимно, рука в руке. Доверительно и тепло.
А вот уже март, и ещё одна встреча. Около Заочки. Вспоминает моих «Скворцов». Хвалит… Написал о них и о других рассказах моих однокашников по сборнику рассказов «Точки» статью. Андрей Венедиктович Воронцов (руководитель нашего семинара на ВЛК, позже на Курсах литературного мастерства и ЛИТО «Точки») разместил её на своём сайте, опубликовал в «Литературной газете», включил в готовящийся к публикации в 2019 году сборник «Точки. Избранное».
И ещё раз встретились. В «Книжной лавке писателей» на Кузнецком мосту, где выпускница ВЛК Ольга Суркова, организатор «Литературной гостиной», проводила в допандемийные времена встречи с авторами и презентации книжных новинок. В тот раз представляли мою книжку «В городе и на отшибе» и Елены Яблонской «Крым как предчувствие». Пришёл. Говорил добрые слова. Попросил книжки на память. Обычно я фотографирую встречи в Книжной лавке, а в тот раз рука не поднялась: как-то неудобно было снимать Алексея Константиновича, уж очень был плох.
Алексей Константинович отличался от многих преподавателей ЛИТа : не проплывал над студентами, а был где-то рядом, на какой-то общей волне, поддерживал участием, интересом к творчеству. Уверена, что память о нём долго будет жить среди выпускников и студентов, и у каждого он будет свой, сокровенный.
Здесь я решусь привести свой рассказ поскольку в Литературном институте его отметили «Платоновской премией.
Скворцы прилетели
Уложив Наташку на старую, ещё брежневских времён кушетку, укутав её бабкиным ватным одеялом, Николай подошёл к печке, открыл дверцу, зажёг спичку, поднёс к коре. Огонь облизал поленницу, разгорелся.
– Вот так бы всегда, хорошая сегодня тяга, – как будто кому-то сказал он.
Но никого кроме мало′й, наревевшейся без матери, в избе не было. Что в избе?
На всей их улице – только он да девчонка, только два дома на всей их улице, его да дачников. Тех ещё ветер не принёс, а дочку, как ветром сдуло. «Нет, объявится, конечно, когда-никогда. Деньжат подзаработает, сколько-нисколько, объявится. Тут дитя её, куда ей без неё. А пока с дедом. Хотя какой я дед – ни седины, ни бороды. Хоть сейчас в женихи, а тут в няньках. Да, нет, я что, я ничего, это, пожалуйста.
А сам кряхтел, держался за поясницу, кашлял.
Вышел на крыльцо, в чём был, в рубашке, старых спортивных штанах да тапках на голу ногу. Как всегда, глянул на небо, на готовившееся к закату солнце; на берёзу, которая выросла так, что закрывала полнеба, расставив, ручищи над тропкой к калитке, над малиной, над столом, где летом кому чаи, кому стопари. Посмотрел он и на ржавую груду металла, сваленного под берёзой, которая когда-то была его трактором… Надо бы давно её сдать на металлолом, чтоб глаза не мозолила и не травила душу. «Да и окашивать трудно, всё косой цепляешь».
Но до косьбы ещё далеко. Правда, трава зазеленела и серёжки на берёзе объявили – скоро прилетят, скоро прилетят, милые.
Взглянув наверх, где висел слаженный им скворечник, когда-то голубой, яркий, заметил, что тот покосился, как бы ни упал…
Вышел за калитку, вот он простор, вот где дышится, вот где и курнуть не грешно. Но ещё и на скамейку у забора не успел сесть, как увидел: под берёзой скворчиха наскакивала на женишка, тот хохлился, лепетал что-то в ответ, будто оправдывался.
– Так, значит, уже тут как тут, а дом-то покосился. Вот она и выговаривает.
И сразу вспомнил своё – как привёз в дедов дом молодую жену, а она ему:
– Это что же, я в такой сырости ночевать буду? Да у тебя грибы на стенках растут.
– А я ремонт сделаю, яичко будет.
– И когда же это? Из чего?
– Да ты не шуми, не шуми, посмотри лучше кругом.
– Так, значит, уже прилетели. Не успел до их прилёта подправить. Ну, ничего, ничего. Сейчас.
Николай притащил из сарая лестницу, приставил к берёзе и не спеша, как он всё теперь делал, стал подниматься. Пока лез, ругал себя последними словами:
– Ну, и зачем я так редко перекладины набивал, нельзя что ли их поближе друг к другу приколотить. Корячься теперь.
С трудом дотянулся до покосившегося скворечника, поправил и подумал: «На будущий год надо новый сделать, этот уж совсем сопрел».
Не торопясь стал спускаться. Его подгнившая лестница скрипела, шаталась. «И ей пришло время».
Он закашлялся, дышать стало трудно, и вдруг перекладина подломилась, и ему пришлось ухватиться за сук берёзы. Издав сухой хриплый звук, дерево откинуло от себя засохшую ветку, пальцы рук у Николая разжались как-то сами собой, и он упал на груду металла, на ржавые останки былой гордости колхозного строя.
Острый обломок того самого трактора, который приносил ему когда-то доход и славу, царапнул сильно и больно.
Он хотел сказать злые слова, которые и словами-то назвать нельзя, которые сами выскакивали из него, но вместо них почему-то шепнулось «Господи!», и вдруг увидел над собой какое-то неведомое ему раньше небо. Всё затихло, стих ветер, птичьи голоса будто растворились в воздухе, и даже берёза, его берёза, будто замерла.
И вместо боли в нем родилось удивление и восторг. Сквозь ветки голубело, слегка подсвеченное золотым лучом солнца, небо. Оно распахнулось перед ним, и вдруг земля оказалась где-то внизу: и берёза, и изба, и поля. За зарослями садов краснели уцелевшие от пожаров стены старых домов, весело блестели на кладбище металлические венчики свежих венков, тёмными пятнами лежали надгробья, кривились старые кресты.
Обычное, примелькавшееся, стало великим и таинственным.
Его не удивляло это странное разглядывание земли сверху, оно завораживало. Не удивило даже то, что он увидел: из бани, которая стояла чуть поодаль от их избы, вышла жена, её тело розовое и молодое, круглилось большим животом, за руку она вела светлотелого малыша, смешно загребавшего ногами. «Что это она раздемшись? Сдурела баба и Лёшку застудит».
Хотел крикнуть, но звука не получилось, только внутри что-то больно съёжилось и будто разорвалось. И уже не криком, а мукой проплыл перед ним тот мост, на котором тряпьём повис Лёшка, приговорённый кем-то.
– Ю-ль-ка!
– Гляди, отец, дети-то у нас какие справные!
И уже не у бани, в ветвях старого сокоря, мелькают качели из какой-никакой доски, привязанной старыми дедовскими канатами, и детишки вспархивают Ленкиным платьицем и Лёшкиными вихрами.
– Юлька, возьми к себе, не могу больше, – хочет крикнуть Колька, но немота рвёт нутрь, бросает на ржавое, отслужившее…
«Наташка-то одна в избе, а у меня печь затоплена», – вдруг думает он.
Сползает с кучи металла, босой, в разодранной рубашке, испачканной кровью, подползает к избе.
Там, за дверью, у соскочившего с печки огня сидит Наташка, маленькая такая девчоночка, только-только ходить научилась, и дует, дует на пламя как на блюдце с горячим чаем…
Добрые слова об этом рассказе сказал в своих статьях о сборниках «Точки» «Глубинный смысл многоточий» и Вадим Алексеевич Салеев (доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Артэфакт» (Минск, Беларусь). «Здесь, на малюсеньком литературном пространстве концентрируется в едином синтезе то, что поэт, – слегка перефразируем – назвал дыханием (у Нины Кроминой – вздохом!) почвы и судьбы.
Статья Алексея Константиновича Антонова (1955-2018) «Точки Будды» (Опубликована в «Литературной газете», 2013, 15. 05) и статьи Вадима Алексеевича Салеева «Глубинный смысл многоточий» и «Отражение или созидание» (опубликована в сборнике «Точки» Избранное. – М.:» Новое слово», 2019) дают развёрнутый отзыв на сборники «Точки» и определяют их место среди подобных изданий.
Для читателей важны предисловия, написанные Андреем Венедиктовичем Воронцовым к каждому сборнику рассказов, поскольку отражают их особенность.
Хотелось бы почеркнуть, что Андрею Венедиктовичу Воронцову мы обязаны многим. Строгий, ответственный, я бы сказала педантичный. Наш первый литературный учитель. Именно он поддержал нас, когда, окончив ВЛК, мы стали выклянчивать у руководства института «продолжение банкета». И что же? В радость нам, и тем, кто пришёл за нами, при Литературном институте организовали Курсы литературного мастерства, не Высшие двухгодичные, на которых учились мы, а годичные. Там мы продолжили свои посиделки. Очевидно, всё-таки рано или поздно расползлись бы. Но случилось горе, которое объединило нас. Ушёл молодой, талантливый Дмитрий Шостак. Красивый, рослый, удивительный в своём мягком, добром общении, необычный в своих текстах с философскими рассуждениями. Ему было двадцать восемь.
Название рассказа Дмитрия «Точки» перекочевало в название коллективного сборника рассказов и позже дало название Литературному объединению «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России под руководством нашего мастера Андрея Воронцова.
Презентация первого сборника прошла в Литературном институте. Ректор института (тогда им был Борис Николаевич Тарасов), преподаватели, студенты. Это ли не праздник для пишущей братии?
Несколько лет проводили вечера в актовом зале Союза писателей России на Комсомольском проспекте, 13. Это здание, также как и Дом Герцена (Литературный институт им. А.М. Горького), славится своей историей и архитектурой. 18-ый век! Классицизм! Казаков! Портики, пандусы, колонны! Это место известно москвичам под названием Шефский дом, поскольку предназначался для офицеров и шефа (почётного командира) полка. Когда-то здесь проводили свои заседания декабристы. Теперь -писатели Союза писателей России.
После того как писателей «уплотнили», наши встречи переместились на первый этаж, в Шолоховский зал. До ремонта двухтысячных годов это помещение поражало необычным убранством: в нём нас встречали фигуры казака и казачки. Он – в синем мундире, сапогах, она – в голубом костюме, кофточка приталена, юбка в пол, кружевные оборки, косынка, изящные туфельки. Слева от входа имитация печи с разноцветными шторками, окна с кружевными занавесками, кровать с белым покрывалом и подзором. В углу скульптурное изображение М.А. Шолохова, на стенах фотографии – виды станицы Вёшенской, музея Шолохова. И, конечно, книги Михаила Александровича в стеклянных витринах. Тепло и уютно! После ремонта домашняя обстановка исчезла, зал стал обыденным и пустым, а наши встречи в скором времени переместились в Нотную библиотеку имени П.И. Юргенсона. Пространство залов здесь располагает к встречам, презентациям, чтению стихов, прозы. Картины на стенах, прекрасные рояли, возможность показа видеосюжетов –всё это привносит дополнительно ауру и создаёт прекрасное настроение. До пандемии, как я уже говорила, проводили мы вечера и в Книжной лавке писателей на Кузнецком мосту, куда нас приглашала организатор Литературной гостиной поэт Ольга Суркова. Об этом здании тоже следует сказать несколько слов. В разные времена здесь выступали известные писатели, поэты. Якобы, здесь продавцом книжного магазина начинал свой трудовой путь известный русский писатель Борис Зайцев, одно из своих последних выступлений здесь провёл Евгений Евтушенко. Помнится, что в поздние советские годы рядом с магазином располагался книжный толчок и тоскующие по хорошему печатному слову могли здесь за большие деньги свой голод насытить…
Мы же, выпускники Литературного института и Высших литературных курсов, уже в новое постсоветское время по четвергам поднимались по скрипевшей под ногами лестнице в небольшое помещение букинистического отдела, где пахло старыми книгами, и можно было найти много золотых россыпей. Там, расставив вдоль стеллажей стулья, внимали друг другу и, насытившись пищей духовной, продолжали общение в ближайшем «Му-Му».
Как бывает обычно со временем состав нашей тусовки стал меняться. Кто-то, к кому прикипела душа, сначала появлялся изредка, потом надолго исчезал.
Некоторые ушли навсегда. Дмитрий Шостак, Олег Надточей, молодая талантливая Женя Сафонова, Виктор Петрович Слинько, Игорь Чичилин.
Олег Надточей успел издать две книжки. Одну детскую с детективной историей про домашних животных и другую для взрослых «Городские рассказы». Один из них, на мой взгляд очень сильный, «Эта сука Мариванна», Андрей Венедиктович опубликовал в одном из сборников «Точки», перепечатав его в сборнике «Точки» Избранное». В этом же сборнике опубликован рассказ, ушедшего в 2021году, талантливого писателя, поэта и драматурга Игоря Чичилина. Игорь по первому образованию – инженер-физик, что он часто подчёркивал. Он, автор нескольких книг, умело соединял в своих произведениях реалистическое начало с фантастическим сюжетом.
Необычным даром обладала и Евгения Сафонова, оставившая на память близким проникновенные строки, соединившие в себе разные жанры малой прозы: сверхкороткого рассказа, миниатюры, зарисовки, притчи.
Безусловно, вклад этих прекрасных авторов в русскую безбрежную литературу невелик. Но они дороги нам, как капли росы, блеснувшие в лучах солнца.
Будем помнить!
Часть 5.
Поздняя осень. Поблекший под тёмной пеленой город. Голые, будто напоказ, ветви. Лишь последний яркий лист дрожит на клёне под моим окном. Ещё вчера я могла встречаться с друзьями, разгуливать по улицам и переулкам, а сегодня белый потолок, бежевая стена, время, падающее каплями в настенных часах. Три недели ломоты, дрожи, сменяющейся внезапным жаром, сухих губ, сырой подушки. Как тяжело дышать! Ночь сменяет день. День сменяет ночь. Вместо сна видения, провалы в никуда. Белые силуэты в скафандрах. Вот вошёл мой дед. Добрый. Сухой телом, высокий. С белым платом в руках. Он наматывает его мне на голову. Ткань каменеет, преображается в венчающую голову корону, потом спускается на лицо, забинтовывает глаза, обвивает нос, шею. Я покорна и терпелива, даже радостна! Значит время пришло. И тут откуда-то сбоку появляется отец. Взглянув на деда строго, почти гневно, он скидывает с меня тряпки. Дышу глубоко, с наслаждением. А за окном всё тот же узорчатый лист, красивый ярко-золотой.
Мемуар 22 Время вспоминать
Теперь, когда я перешла в новый отрезок жизни, именуемый преклонным возрастом, сожалею о многом. Например, о том, что удалось побывать всего лишь в нескольких точках нашего голубого шарика. Для перечисления достаточно пальцев одной руки (лукавлю – двух). Помню, когда в 2020 году возвращалась на самолёте из Калининграда, где участвовала в литературном фестивале «Русский Гофман», в соседнем кресле сидел мужчина. Шестьдесят пять плюс, как я. Он оказался разговорчивым и всё сетовал на то, что пандемия коронавируса лишила нас возможности путешествовать. Правда, вскользь упомянул, что за свою жизнь объехал и Европу, и Азию. Но ему этого оказалось мало. Что же говорить обо мне, для которой не только заграница, но и Россия приоткрылась лишь маленьким кусочком автобусного галопа. И как же приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть не только дворцы, островерхие крыши и узкие улочки, но и что-то ещё, что ищут сердцем. Пришло время не просто вспоминать, а вглядываться в картинки прежних путешествий.
В поездках кроме экскурсионной программы я всегда пыталась уловить мгновения прошлой и сегодняшней жизни. Мне хотелось бы пожить то в одном месте, то в другом. Утром, когда флорентийцы ещё не проснулись, побродить по городу, подойти к молодому человеку, мимо которого промчались под возглас экскурсовода: «Не останавливаемся, это не по программе». Он стоял под холодным дождём на Via Santa Margherita, заметный на фоне серого дня красным колпаком и декламировал. Над ним висел листок с изображением Данте, и я догадалась, что он читает из «Божественной комедии». Ни перевёрнутой шляпы у ног, ни кружки для сбора монет. Он и на следующее утро, когда мы проезжали на авто, опять стоял на том же месте и, кутаясь от непогоды в хламиду, жестикулируя, бросал слова в воздух:
«А если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной Сам человек: лишь он – источник бед, Своих скорбей создатель он единый…»
Пожалуй, только в Мontenrgro я не спешила!
С Черногорией, с лёгкой руки и по совету Дмитрия второго, моего танцевального босса, повезло. Там мы с мужем провели пять сентябрьских дней в отеле, расположенном в бухте при въезде в Пржно. Бывший когда-то рыбацким, обросший уже и вовремя нашей поездки виллами, посёлок ещё хранил дух прошлого, и здесь я могла наблюдать за обычной жизнью черногорцев.
В нескольких шагах от отеля, на берегу Адриатического моря, на кромке воды угнездился двухэтажный дом. На первом – ресторанчик, на его выносной террасе, снизу обшитой досками, несколько деревянных столов. В штиль аквамариновое серебро блестит, переливается, уводит взгляд в прозрачное с разноцветной галькой море. В бриз во′лны равномерно шлёпают по доскам, лёгкие брызги приятно освежают. Если заштормит, хватай свои тарелки и бегом под крышу.
Хозяева этого дома жили на втором этаже. В проёме открытого окна я часто видела в ореоле курчаво-чёрных волос молодую весёлую женщину. По утрам в сопровождении паренька лет девяти выходил из дома и, оставляя на песке крупные следы босых ног, не спеша шлёпал по пляжу к лодке пожилой мужчина. На плече он тащил снасти. Мальчик припрыгивал сзади. В руках сачок, болтающиеся на шнурках кроссовки. Женщина выкрикивала ему вслед что-то весёлое и грозила пальцем. Их лодка стояла среди множества похожих. Из бухты они не выходили, ловили рыбу у крошечного скального островка с полуразрушенным строением. На мои вопросы об этом здании отдыхающие отвечали, что в нём, скорее всего находилась караульная, защищавшая побережье от турецких пиратов, а кто-то бросил «тюрьма». К обеду рыбаки причаливали, возвращались с уловом. И тут же за работу принималась пожилая женщина. Она выходила из дома с тазом и, подоткнув длинную тёмную юбку, чистила рыбу на берегу моря. Рядом с ней пегий пёс дворовой породы лакал воду. (Михаил, мой муж, прозвал его Солёным).
Для нас это сигнал: пора на обед в их маленький ресторанчик под названием «У моря». Мы садились на террасе и, слушая море, любовались лёгкой, поднимающейся дымкой, горами заросшими оливковыми деревьями. Еду подавал молодой худощавый брюнет. Мил, легко-приветлив, не безупречный, но русский язык. И всего-то двадцать евро на двоих. Нам это казалось дорого, но удержаться от кайфа мы, как и другие постояльцы нашего отеля, не могли.
После обеда прогулка по посёлку. За оградами деревья с яркими плодами гранатов, апельсинов, жухлыми инжирами. То мелькала белая хатка с красной черепицей, то выставив напоказ архитектурные излишества, любовалась собой вилла, перегородив дорогу валялись вальяжно-пыльные кошки… Казалось, что это место должны бы облюбовать художники. Столько красок! Но, к моему удивлению, ни мольбертов, ни этюдников. Наверно, на этот раз спрятались от посторонних глаз, забрались в горы и оттуда ведут «прицельный обстрел».
Мы проходили по центральной улице вверх до автобусной остановки. Рядом с ней на деревянной доске непривычные объявления с фотографиями людей из этого посёлка или соседних, недавно ушедших из жизни. Их родственники приглашали на прощание и поминовение. Эта традиция, не знакомая мне, вызвала уважение, как и степенная размеренная жизнь посёлка. Очевидно в разгар сезона здесь шумно и многолюдно, но в конце сентября спокойно и пустовато.
У автобусной остановки мы останавливались и поворачивали назад.
Пройдя последний магазинчик, попадали в сосновый парк.
Аромат хвои и моря, птицы, белки, скалы, неспешная тропа, зовущая всё выше и выше. Поднимались на плато. В распахнувшийся простор врывалось небо, а под ногами всеми оттенками изумрудного и голубого сияла Адриатика. Говорят, здесь любила сиживать королева Мария, внучка российского императора Александра II и жена короля Александра I Карагеоргиевича, убитого в Марселе в 1934 году. На одном из портретов русского художника Ф.А. Малявина 1933 года, молодая женщина в амарантовом лёгком платье перебирает длинные из круглого жемчуга бусы. Черноброва, пылка, в глазах любовь и затаённое напряжение. Неужели художник пророчествовал и из тридцать третьего года увидел тридцать четвёртый? А мы, налюбовавшись (могли бы и кофе попить: куда только не добираются вездесущие рестораторы), спускались с горы и лесной тропой выходили к отелю, называвшемуся так же, как и пляж, «Пляж королевы». Крошечная бухта, закрытая с двух сторон горами. Не многолюдно. А вот дальше в королевской резиденции (ныне президентской) оживлённее. «Милочер», от ласкового русского «милая» (так называли королеву Марию домашние). Здесь сосны расступаются, и другая, оранжерейная красота кружит голову. Розы, множество роз в центре, они перешёптываются с пальмами и другими экзотическими растениями. Мы шли дальше. Теперь тропа, петляя, то поднималась по скалам, то опускалась среди сосен и вела всё время вдоль моря. Проходили через арку грота с радующими ступни волнами, через пляж, опять вверх. Корни переплетались, хватаясь за скалы, и образовывали приятное для отдыха место. Здесь мы присаживались и, конечно, фотографировались, нет, не на телефон, тогда, в начале двухтысячных, до нас ещё не доплелились мобильники, пользовались «мыльницами» Сanon. С этого места с интересом наблюдали за любителями дайвинга. Вода в Адриатике настолько прозрачная, что можно разглядеть путешествия любителей подводного плаванья. Вот они уходят в глубину, огибают камни, напоминая русалочий хвост колышутся ласты… Продолжая путь, выходили к острову «Святой Стефан». Тонкий рукотворный перешеек соединяет его с сушей. В прошлом – посёлок рыбаков, известный со времён Венецианской республики, ныне комплекс престижных отелей. Его почти округлая форма и яркие черепичные крыши среди моря – картина незабываемая… Вот где раздолье для художников…
Когда-то художники теснились и на парижских бульварах, но в январские дни уже далёкого двухтысячного года, я не встретила ни одного. Заприметила в субботней толпе пожилую женщину. Седые букли, чёрное пальто, красный шарф. Её внешность, манеры соединились у меня с образом дамы из квартиры напротив отеля.

