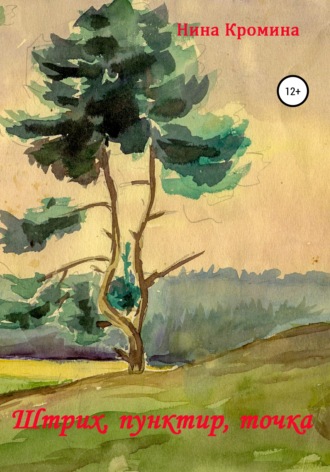 полная версия
полная версияШтрих, пунктир, точка
(Должность у Галины важная, она – директор библиотеки, впрочем, это одно название, на самом деле она просто Галя. Она коротенькая, толстенькая, а талия у неё – осиная, говорят, таких мужики любят. Нина Ивановна должного отпора ей дать не может, поэтому краснеет.
Время приближается к обеду, обитатели ночлежки начинают препираться, кому идти за хлебом, чай они пьют сообща. Всем лень).
Нина Ивановна (она здесь самая главная и за всё ответственная. Со слезами на глазах). Всегда я, всегда я.
(Одевается, берёт сумку и исчезает в дверях.
В комнате появляется Марина, она очень маленького роста, худенькая, занозистая).
Марина. Куда это вы Нину Ивановну отправили?
Любаша. Сама пошла. Хлеб кончился.
Галина (Хлопает мелкими подкрашенными ресницами).
Давно пора эти совместные чаепития прекратить. Я всегда СВОЙ завтрак приношу.
(Обычно Галина сидит в комнате слева от входа и не отвлекается от пишущей машинки даже когда ест свой завтрак. Одновременно она успевает громко посмеяться, рассказать, как в Ленинке, где она раньше работала, всё замечательно, какие там работают тонкие культурные люди. Она также рассказывает про сына, какой он умный и какие у неё гадкие соседи.
С бумагами и папками входит ещё одна молодая женщина, тоже Любовь, но уже с отчеством. У неё своего стола нет, поэтому она сидит за одним столом с Ниной Ивановной, на краешке. Она убирает свои бумаги, журналы раскладывает на столе бумажную скатерть, вырезанные из бумаги ажурные салфеточки.
Любовь с отчеством в ночлежке недавно, но уже повесила на замызганное окно свою кисейную шторку с замысловатыми оборками, вырезала вот эти салфеточки, сказала, что на следующей неделе поклеит новые обои. Она здесь человек случайный. Обеспечена, домовита и грустит о своей кухоньке. Руки у неё крепкие и твёрдые, на кистях жёлто-коричневых пятна. «Это от химии, я ведь после школы на химзаводе работала».
Она берёт чайник и выходит в коридор, чтобы поставить на плитку.
В дверях сталкивается с Ломовым, который заехал на машине проведать своих подопечных; его кабинет в другом помещении, и предлагает ему чайку).
Ломов. Какой чай, я же из министерства прямо, спешу к себе, меня там народ дожидается. Так мимо ехал, думаю, заехать надо. А эта где? (Показывает глазами на стол Нины Ивановны).
Любовь с отчеством. Придет сейчас. Вышла.
Ломов. А … ну, глядите, не балуйте тут. Обзор-то сдали?
Любаша (тихо). Да, ещё на прошлой неделе.
(Нина Тимофеевна ужом вьётся).
Нина Тимофеевна. Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, мне бы тут шкафчик, вон туда – для обзоров.
Ломов. Какой вам ещё шкаф, вы же стол просили.
Любовь с отчеством (голосом тоньше обычно, криво улыбаясь нижней губой). Да, у меня ведь места нет.
(Возвращается Нина Ивановна. Красивая. Крупная. Улыбается белозубо и молодо).
Ломов. Ну, здравствуй! Как тут у тебя?
Нина Ивановна. Да всё хорошо, Дмитрий Иванович, спасибо.
Ломов Спасибо не красиво. Когда в гости пригласишь?
Нина Ивановна. Дмитрий Иванович, да хоть сейчас садитесь, чайку попьём.
Ломов. Чайку, это уж я в министерстве напился.
Нина Ивановна. Тогда на праздники заходите, ждать будем.
Ломов. Ну, ладно. Ты тут смотри, чтоб дисциплина была.
(«Не извольте беспокоиться», – шепчет мелкий бес, а Нина Ивановна улыбается и одёргивает кофточку, это у неё привычка такая, чтоб при начальстве стоять прямо и кофточку одёргивать.
Ломов уходит, за ним спешит Галина, в дверях что-то «напевая» ему.
Он идёт в соседнюю комнату, где сидят зарубежники. На этих он зол). Ломов (про себя). Им, понимаешь, места не хватает, ходят через день, всю комнату шкафами испоганили…
Галина (забегая вперёд, преданно глядя в лицо Ломову).
Так ведь труд в удовольствие, Дмитрий Иванович, вот я от машинки не отрываюсь.
– Это хорошо, – хвалит Ломов.
– Ну вот, Дмитрий Иваныч за порог, а мы за чаёк, – говорю я.
Выхожу в коридор, подогреть чайник.
Там, рядом с подоконником, в стене, маленькое отверстие. Оттуда антеннками торчат усики. С ними я знакома уже несколько лет. Когда увидела первый раз, испугалась, потом подумала, наверно, паучок какой-нибудь или сверчок. Теперь он меня узнаёт, увидит, усиками пошевелит. Иногда кажется, будто о чём-то спрашивает, а иногда, когда усиками направо поведёт, будто рассказывает что-то. Недавно в Интернете я вычитала, что живут, де, в старых домах лет по 200-300 такие инопланетные существа, которые всю информацию с людей списывают и в какой-то банк знаний помещают. Может, и правда? …
Приношу чайник в комнату и думаю:
«Хорошо. Сейчас чай попьют и побегут по магазинчикам в поисках мясного или галантерейного, а я тут пока на библиографической карточке что-нибудь да черкану… про день сегодняшний и день вчерашний. Моему сердцу ближе монистовый перезвон дрожащих листьев, соловьиные трели, но о них всё сказано, и сказано хорошо, лучше и не скажешь. А о ночлежке нашей – Алексей Максимович… Разве что добавить про красные носки, сосланные к нам из министерства или красавчика с ключами на пальце и тонкими сигаретами, которому и стол сразу нашёлся, и стул. Да только сидеть он на нём не собирался. И как только что-то ему не понравилось, встал и вышел. Навсегда.
Однажды зашёл Толя, под нашими окнами он с небывалым усердием орудовал летом метлой, зимой скребком или лопатой. Долго извинялся, вытирал ноги о мятую тряпку у входной двери.
– Я только на минуточку, очень хочется посмотреть, как тут теперь, я, ведь, здесь жил. А вот это мой подоконник. На нём и лежал, когда немцев ждали. Дали мне ружьё, показали, как стрелять и сказали: «Жди», а сами ушли. Мне тогда только четырнадцать исполнилось. Два дня с него не сходил, не ел даже. Слава богу, не дождался. Во время войны один во всей квартире и оставался, кто умер, кто уехал, а потом опять понаехали. Где вы сидите, пять человек жило, а в той, напротив, трое, а где у вас всё шкафами перегорожено, не помню точно, человек шесть…»
А как-то прислали нам начальника. Главного! Над всеми! Но ненадолго, потому что, когда он от министра выходил, то спиной к нему никогда не поворачивался. Вот ему повышение и вышло.
Да, много у нас в ночлежке народу перебывало…
И вроде бы всё за давностью лет должно было бы позабыться, но как-то под утро, в полусне явилась мне та жизнь. Будто выглядываю в то окно, на подоконнике которого лежал когда-то Толя, поджидая фрицев, и вижу, как идёт по переулку Нина Ивановна.
«Ой, сегодня же у неё день рождения, – вспоминаю я. – А у нас ни подарка, ни цветов, ни угощения».
Мы бросились помогать, накрывать на стол, а она говорит: «Нет, нет, вы работайте, я всё сама сделаю».
Достаёт из-за шкафа ватман, он у нас там всегда хранился, стол свой бывший как скатертью накрывает, тарелки, вилки – всё как всегда. Только на столе, конечно, пустовато. (Ещё бы годы-то девяностые).
Сидим мы, а она на стол смотрит и говорит: «Вот, даже колбасы нет».
Взяла нож, да умело так, руку себе и отрезала, по локоть.
«Хорошо, – говорит,– теперь и колбаска, своя-то она лучше».
Колбаса и правда была отменная. Все ели, нахваливали…
Только с тех пор мы уже ни Нину Ивановну, ни друг друга не видели: контору ликвидировали, а люди как те буковки – букашечками, козявочками – расползлись, кто куда: кто на ПМЖ в другие страны, кто пропал без вести, кто головой в омут, кто на свой диван, кто умер, кто состарился, а кто и в люди вышел…
Такая вот история…
Мемуар 17. Другие времена
А потом настали другие времена. Отстрадал русский Афганистан, улетел олимпийский Мишка, прорыдал Чернобыль. Ельцина скинули под мост, а потом сделали президентом. Брат защищал Белый дом, и пришло время «Эхо Москвы». И я уже не в ночлежке, её прикрыли, поскольку она была союзного значения. Пришлось ездить в далёкое далёко. Автобус, метро, опять автобус.
Служила исправно, отпрашивалась крайне редко и только по великой необходимости. Сначала корпела за машинкой, печатала какие-то обзоры, потом перебралась за компьютер. Казалось, что в это время всё рухнуло и горело синим пламенем. Иногда пламя становилось реальным и те многочисленные переводы, каталоги и библиографические карточки, над которыми десятилетиями бились мои предшественники сжигали во дворе. Как я теперь понимаю, освобождали помещения для будущих арендаторов. Мне и моим сослуживцам достались холодные батареи, тусклые лампочки. Героически выносили трудности, кутаясь кто во что, грея руки о чашки с горячим кипятком. Вспоминали рассказы о войне, голодных годах. Многие пытались заняться торговлей. Деньги приобретали новый смысл! Открывать старый пустой кошелёк, который не только давно рвался по швам, но и резал мне пальцы острыми выпирающими стальками, стало невыносимо.
А так как в то время я и многие увлекались садом и огородом, приходилось, кроме обычных затрат, ещё выкраивать деньги на пакетики с семенами.
Однажды, покупая очередную порцию надежды на будущий урожай, я так сильно поранила мизинчик, что великодушный продавец не мог не приложить к нему бактерицидный пластырь, предварительно слизав с пальца капельку крови.
О, это был очень опытный промоутер, как сказали бы сейчас, он метил в супервайзеры, а потому, пока проделывал все необходимые медицинские процедуры, успел объяснить, как будет прекрасно, если я займусь реализацией этих пакетиков, например, у себя в НИИ, как я смогу не только почти бесплатно выбирать новые высокоурожайные сорта семян, но и получать процент от выручки.
Отказать такому обаятельному мужчине оказалось невозможным, да и мечта о грядках с пышной растительностью уже казалась мне реальной.
Теперь мой рабочий день проходил бодро и разнообразно. Быстро выполнив необходимую по должностной инструкции работу, я предавалась своему новому увлечению: обзванивала отделы, знакомых и незнакомых людей, обсуждала с ними сорта огородных культур. У меня появилась клиентура в других НИИ и даже в министерстве.
Оказалось, что бизнес приносит немалые доходы. Задумала пробурить скважину на участке, потому что без полива все мои овощи были похожи на выходцев с того света.
Получив от своего благодетеля добрый процент с продаж столь ценного товара, я первым делом купила новый кожаный кошелёк. В соседнем отделе переводчица Ангелина, специализирующаяся именно на этом виде изделий, подобрала специально для меня бумажник-купюрник женский из кожи питона какого-то супермодного иностранного производителя. Вот это да!
Я аккуратно сложила деньги, как когда-то делала одна сотрудница с моей прежней работы, у которой муж работал зубным техником, и радостно выпорхнула из дверей института.
В троллейбусе тесно.
Какая-то толстая неряшливая старуха с мясистым лицом прижимала меня к пожилому в духовитом пиджаке мужчине с бутылкой пива.
Я поворачивала лицо то вправо, то влево, но ни фас, ни профиль не могли найти удобного положения. Пришлось вспомнить любимую фразу рентгенологов: «Вдохнуть и не дышать». Вышла на конечной остановке московского метрополитена, пересела на автобус, где тоже изрядно помяли.
Придя домой, прежде чем проверить кошелёк и его содержимое, выполнила весь ритуал домашних дел и только глубокой ночью полезла в сумочку, которую наметила поменять со следующей семенной прибыли.
Плакать я не умела, а потому, не обнаружив купюрника, занялась стиркой, которая меня всегда хорошо успокаивала. Правда, домашние принялись ворчать, что мешаю им спать, но, узнав причину моей активности, решили не отвлекать.
Спалось неспокойно. Снилась то старуха с толстыми пальцами, то худой несвежий мужчина. Каждый из них держал в руке мой новый кошелёк с аккуратно сложенными бумажками.
Сначала я видела только их руки. Потом проплыли их лица – больные, у неё одутловатое, серое, у него изнурённое, с желтизной, с ввалившимися щеками. В глазах у обоих показалась такая тоска, что от жалости то ли к ним, то ли к себе расплакалась и проснулась.
Утром позвонила начальнице, отпросилась, сказала, что приду чуть позже и … пошла в церковь. Нет, безбожницей я не была, про таких говорят «Захожанка», они идут в Храм, когда уже нельзя не идти, и ноги сами туда несут. А тут вроде и случай-то несерьёзный, подумаешь – кошелёк.
Поставила свечки, записочки подавать не стала, потому что не знала имён тех, двоих, и стала просить за них, молиться. И вдруг увидела их лица, уже другие, ни как во сне, а будто выздоровевшие.
Выйдя из Храма, я запорхала к троллейбусной остановке, заметила любимых синичек на рябине, протянула к ним руку. Одна – самая маленькая – подлетела и села на ладонь, ткнув клювиком в золотой ободок колечка, переплавленного из дедова, с внутренней стороны которого когда-то жило бабушкино имя.
Мемуар 18. Вечный огонь
Увлечение семенами, конечно же, не с неба упало, и означало приобретение собственного земельного участка со старым столетним домом. К сожалению, находился этот дом очень далеко от Москвы. Добирались ночными электричками. Доезжали до вокзала московской железной дороги Рязань-2. Вместе с «демонстрантами», вооружёнными рюкзаками, лопатами, досками шли по тёмным улицам со спящими домами на Рязань-1.
Куковали, сидя на холодном полу, хорошо, если место у колонны было свободным и тогда, привалившись к ней, дремали или попивали чаёк из термоса. Едва начинало светлеть, вместе с толпой устремлялись к платформе. Там, напирая друг на друга, гадали, где будут двери электрички. И вот, слепя округу, выползал глаз. Тут уж начиналось невообразимое. Казалось, ещё чуть-чуть и передние ряды окажутся под колёсами. Но, как правило, обходилось без жертв… Утром, под соловьиные трели, если тому сопутствовал сезон, дыша озоном, перебираясь через овраги, добирались до деревни, где ждал дом.
Сложенный из местного кирпича в самом начале двадцатого века, а может быть и раньше, он проигрывал в сравнении с соседними. Даже те, на фронтоне которых выделялись цифры «1904», казались на его фоне молодыми и бодрыми.
Слева от нашего, через поляну, стоял деревянный дом, построенный в конце пятидесятых. Жили здесь Анна и Леонгинас. Он же Леон, Алексей Иванович, дядя Лёня. Самые расчудесные наши соседи. Светлая им память.
Анна, Анна Андреевна, вставала рано, ухватами ворочала на печи неподъёмные чугуны, кормила скотину, а после того, как выгоняла в стадо корову, долго стояла на дороге и с тоской вглядывалась в зарастающие травами брошенные усадьбы.
– Нет, – говорила она, – добром это не кончится. Ты гляди, Нина, – никого не осталось. Вон в том дому, – она указывала рукой в сторону, – Храмовы жили, в том Лутонины, в том дед Егор. Ты объясни мне, что они в этом городе нашли? Смотри, какая здесь красота. А всё рушится, всё: ни соседей, ни праздников. Раньше что? И горе вместе, и радость. Да и Лёнька мой стал уже не тот…
Потом у неё начинала болеть голова, она уходила в избу и, задёрнув выгоревшую штору, ложилась на кровать, за печку.
Почти каждый день приходила она к нам и, сидя на скамейке около крыльца, рассказывала что-нибудь из своей жизни.
Чаще всего о том, как её ещё девчонкой гоняли на торф. Как по колено в воде, сутками лопатила болото. «Ведро, тачка, опять ведро, опять тачка. В перерыв, минут пятнадцать, не больше, кусок черного, непропеченного, то крошками в кармане рассыпавшегося, то комком – хлеба. Ну, и какие после этого танцы? В награду – ситцевый отрез на платье. Теперь вот вечные носки, самые толстые, будто с ногой срослись, только калоши на них и налезают. Когда во второй-то раз на торф назначили я уже умнее стала, убежала в Емор, это у нас так лес дальний называли, чаща непроходимая. Там и отсиживалась, отец вечером, когда стемнеет, чтоб не выследил кто, приходил, еду приносил. Ночью страшно было, никогда не забуду.
А потом ещё и в Воркуте побывать довелось…”
О том, как её литовец от смерти спас, не рассказывала.
Это мы узнали от Алексея Ивановича.
– Шёл однажды в Воркуте со смены, уже на поселении, своё то тогда уже отсидел, а у самых рельсов светлым пятнышком женщина с ребёнком на руках, и поезд совсем близко. Рванул, успел, прижал к себе.
– Она вырывается, кричит, еле удержал, но какой же я шахтёр, если с бабой не справлюсь. Так и зажили втроём: я, Аннушка моя и доченька – Любушка, потом ещё дочка родилась, Валентина.
Потом вот дом в деревне построили, у неё на родине. Ко мне ехать не захотела. А когда я последний раз в Литву ездил, то тоже чудно было.
Только в Вильнюсе сел в такси, а таксист сразу с вопросом:
– Дед, ты литовец?
– Да.
– Тогда поехали к центру, телевизионному, Литву защищать надо.
Мне там ружьё выдали, до самого утра в обороне простоял….Потом к своим поехал, на хутор, хотя из своих только невестка и племянники. Родители, брат давно умерли.
Когда вернулся в Аннушкину «Зарязань» и с порога:
– Я Литву защищал!
Она сразу же на меня напустилась:
– От кого, ирод, от нас, от русских?
– Не знаю, мать, от фашистов, наверно.
– Лёнька, опять на Колыму захотел? Забыл, как в сорок шестом фашистов бил? Ты что против русских?
– Аннушка, ты же знаешь, я Россию, как Литву, люблю.
– А зачем с бердянкой стоял?
– Я, мать, Литву защищал, это моя Родина.
Вот и поговорили.
– Лучше б ты не ездил, как поедешь в эту свою Литву, у меня сердце не на месте.
– Так ты сама хотела, чтоб я пенсию оформил, как пострадавший, сама гнала.
– Пенсия это другое дело, это ты за своё прошлое получить должен. А сейчас что?
– Я ведь думал, Литва и Россия – одно. А теперь выходит – порознь.
Я, Аннушка, всю жизнь люблю и тебя, и деток наших, и Родину, она мне всего дороже.
Долго шумели в тот день старики, ветер разносил их слова по округе.
А потом Леонгинас загрустил, сильнее обычного у него ныло тело,
он ворчал на свой «хондрос», который совсем замучил.
По вечерам Анна скручивала ему цигарку, потому что руки его почти не слушались…
Напротив нашего дома жил фронтовик по прозвищу Чапай. Тоже Алексей. Приходил к нам вечерами поговорить. На память о нём подарок: две немецкие трофейные пивные кружки, рюмки и старый фанерный шифоньер.
Через дом, в деревянном, жила тётя Шура, маленькая старушка с громадными очками на носу. За ней тётя Маруся, баба Маня, Барановы, Панкины…
В то время во многих избах ещё шла жизнь. В палисадниках цвели мальвы, из труб шёл дымок. По просторной улице, носившей название Голый конец, гоняли коров, водили к сочным травам коз, здесь разгуливали куры, гуси. Далёкие восьмидесятые годы вспоминаются как сон. Теперь – заросли ивняка, высокие травы, выросшие на месте пожарищ, безлюдье. И новое название – улица Овражная, на ней два дома: наш и почти прижавшийся к нему соседский. Его купил наш родственник, внук моей тётушки Зины, пережившей когда-то в этой деревне злую военную зиму.
Удивительно, что этим самым старым домам удалось выжить в тот год, когда полыхала округа.
Но случались пожары и раньше. И, кажется мне, что случился тот пожар, который мне вспоминается, в августе, под вечер.
Дети – свои и соседские – играли на террасе, я им тогда ещё пирогов напекла с яблоками, и вдруг на улице стрельба.
На ум сразу пришли советские фильмы, в которых врываются в деревню, и нагоняют страх белые или немцы.
Но это из того, что на подкорку записали, а в жизни – взрывался от огня и разлетался по улице горящий шифер.
Выскочили на улицу, дом тёти Шуры полыхал, кричала её внучка «Бабушка, бабушка!», бежали люди и по нашей улице, и по соседней, за вёдра хватались, к колодцу (вот ведь и колодец когда-то был). Тут все увидели, кто на что горазд и от кого какой прок.
Только дом не отстояли, стали поливать соседний, а ветер прямо на него, всполохи от огня, языки по крыше запрыгали, вот-вот и он загорится.
– Все, все погорим!
Тогда две женщины, две сестры, Анна и Настя, отойдя от толпы в сторону, о чём-то зашептались.
– У тебя есть? – спросила Анна.
– Да.
– Вели Андрею сбегать, пусть принесёт, а то, и правда, все погорим.
Пока Андрей, внучок Настин, бегал, сёстры в стороне от толпы и будто про себя шептали: «Тебя Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сём…» и ещё какие-то слова.
А когда прибежал Андрей, что-то из рук его взяли и опять слова чудны′е нашёптывать стали:
«Подуй ветер, потяни жупел и полымя ни на чьи хоромы, ни на лес, ни на пашню, ни на скотную дворину, а на полевую былину».
С этими словами Настя, высокая, дородная, руку подняла и все увидели в её руке красное, будто лаком покрытое яйцо. Оно, в чистый четверг крашеное, в церкви в святую субботу освещённое, у неё ещё с прошлой Пасхи за божницей хранилось.
Бросила Настя яйцо в пожарище, в сторону от домов, к оврагу.
И все, кто вокруг стоял, ни глазам своим не поверили, ни ушам. Будто всё стихло. Не стало слышно треска падающих от огня брёвен, огонь утихомирился и не рвался как сумасшедший в разные стороны, ветер совсем унялся.
Но уже в следующий миг всё опять ожило: и огонь заплясал с новой силой, и ветер, только дул он уже в другую сторону.
– Ну, Слава Богу, – сказала Настя, – теперь уцелеем.
И все опять на неё посмотрели. А она устало взяла свою клюку, которая стояла у дерева, и побрела домой, сгорбившись и приволакивая больную ногу.
Уцелел наш дом и в другой раз. Когда уж не просто пожар, а великий огонь метался по улице. Приехали мы на первомайские праздники, а вместо дома Анны и Леонгинаса – одна печь обгорелая и труба. Внучок, что с нами, за щёчки ручонками схватился и, округлив глаза, покачивая головой из стороны в сторону, запричитал:
– Ой, как я бояся…
Жители другой улицы, что через овраг, рассказывали, что сошлось вместе три огня: полевой, от кладбища и cо стороны домов. «Взметнулось аж до небес». Абдула, он тогда у нас помогал в сельсовете, будто бы сверкнул золотыми зубами и сказал: «Это у вас вечный огонь зажегся!» Старушки, наблюдавшие издали, запричитали и заголосили: «Знамение! Знамение!» А Ольга, председатель сельсовета, вздохнула и говорит: «Это кому Вечный огонь, а кому Знамение», – и попросила мужа наш дом и соседний опахать. Вот и уцелели. На этот раз яйцо, думаю, не спасло бы…
Так начинались девяностые годы. Электрички ездили без стёкол, со вспухшими животами валялись коровы у скотного двора, колхозные трактора растащили или приватизировали. Кто-то торговал ваучерами, паями колхозников, кто-то сгребал всё под себя, кто-то погибал под пулями.
Мемуар 19. Танцуют все!
Помню, вышла как-то из метро и услышала стрельбу, эхом разносившуюся по тихой Ордынке. А через несколько дней в подвал, где работала с некоторых пор, переименовавшись из библиографа в менеджеры торговой фирмы «Танцуют все!», спустились к нам, поддерживая друг друга, две старушки. Одна, помоложе, лет шестидесяти, всё причитала:
– Вот страху-то натерпелись. Мы же от Белого дома недалеко, у нас там при ЖЭКе кружок рукоделия. К нам и девочки приходят, и женщины. И шьём, и вышиваем. А как стрельба началась, ворвались к нам с ружьями. «Уходите, бабки, скорее» и, разметав наше, к подоконникам.
Ну, мы потихоньку, потихоньку выбрались и по домам. А на следующий день приходим – всё вверх дном, грязное. Хорошо, что дома галстуки шьём».
Она достала из ветхозаветной сумки с привязанными тряпицами ручками пакет и высыпала на стол бабочки для фрака.
– Теперь только этим и живём. Пенсию-то Ольге Евсеевне не платят. Вычитают. Она, говорят, зарплату за кружок получала и пенсию, это не положено. Мы им объясняем, что за кружок тысячу, это какая же зарплата… Хорошо, что я не оформлена. Теперь вдвоём на одну пенсию. – И тихо, полушёпотом, ко мне наклоняясь, – только она не берёт. Вы уж на неё бабочки запишите и деньги ей…
Эти старушки заходили к нам ещё раза два, а потом хозяева фирмы нашли крутого английского производителя и стали покупать эти бабочки в Англии. И в их галстуках больше не нуждались.
А я задержалась в этой фирме лет на двадцать и видела её и взлёты, и падения.
Как-то, в тот же год, когда к нам приходили эти старушки, я, разыскивая нужные товары, попала на Пушкинскую улицу, ту, которая теперь Большая Дмитровка, и там, поднявшись на третий этаж, оказалась в представительстве частной японской фирмы. Узнав, что меня интересуют товары для танцев, с изумлением покачав головами, японцы, мужчины лет сорока, округлили глаза и почти одновременно выпалили :

