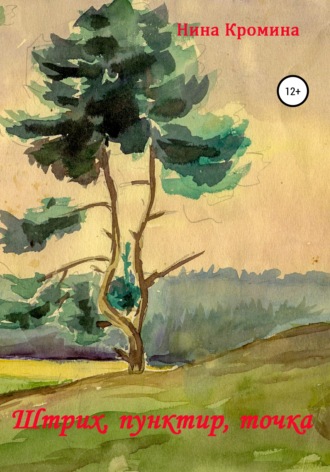 полная версия
полная версияШтрих, пунктир, точка
Утром мама приехала из больницы и потащила его к отцу. Проститься.
Мальчишка (ему чуть больше восьми) как увидел коридоры, палаты, больных в обвисших пижамах, отца немощного, чуть живого, отвернулся к окну. А сосед по палате вышел.
Вскоре после выписки из больницы отец стал пенсионером. Теперь после завтрака он тщательно вытирал клеёнку, расстилал газету, надевал очки и читал.
Сейчас трудно сказать, откуда у него появился журнал с первой публикацией повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но она произвела на него такое сильное впечатление, что будто бы открыла глаза на то, что он видел и знал раньше, но ни видеть, ни знать не хотел. Неужели сомневался? Странно. Тётка, сестра отца, рассказывала, что их старшего брата за продажу часов англичанину, арестовали и сослали на строительство Беломорско-Балтийского канала, где он, по словам заключённых, погиб под оползнем. Мне удалось узнать, что мой дядя, Белавин Владимир Алексеевич, действительно был репрессирован по политическим мотивам в 1933году…
Теперь, когда о тех временах известно достаточно много, трудно представить, что ощущали те, кто узнали правду о ГУЛАГе, прочитав повесть А. И. Солженицына. Особенно, если близким выпала сходная судьба. Думаю, что отец не только усомнился в социализме и разочаровался в нём, но почувствовал ложь, в которой жил, ощутил себя обманутым. Я помню, как он говорил, что теперь (после «Ивана Денисовича» и Хрущёвских съездов и Пленумов) для него осталась в жизни единственная ценность – это семья и дети (а ведь ещё недавно он был правоверным коммунистом! И общественное значило не меньше, чем частное!)
Для меня же образ человека в робе, с нагруженной тачкой среди неразличимых в своей массе фигур, всегда связан с картиной к стихам Н.А. Некрасова «Железная дорога» и ассоциируется с незнакомым мне, но близким родственником, братом отца.
***
Я ощущаю родственную связь и со своим дедом со стороны отца, Алексеем Александровичем Белавиным, ненадолго пережившим гибель любимого первенца. В последние годы жизни он искал утешения в своей первой любви, любви к математике, сочиняя задачи для учебника, который никогда не будет издан. А до этого он учился в Петербургском университете, Императорском техническом училище (нынешняя Бауманка), на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве, по приглашению С. Морозова, работал инженером по прядению; открыл частные общедоступные гимназии, сначала женскую, потом мужскую. Бюрократия в то время препятствие почти непреодолимое и открыть вторую (мужскую), оказалось не просто. Но создание Попечительского совета помогло, и гимназию открыли. Знаменательно, что в 1918 году после многочасового совещания, приняли решение о продолжении изучения Закона Божьего, что, очевидно, послужило поводом к тому, что власти гимназию закрыли.
Удивительно то, что здание мужской гимназии сохранилось до наших дней, и в нём с 1992 года располагается Гуманитарный лицей, которым руководит Вадим Юрьевич Прилуцкий. На фронтоне здания в год столетия гимназии (2008 г) установлена мемориальная доска с именем Алексея Александровича Белавина. Для меня было большим счастьем побывать в этом лицее, сохранившем не только стены, но парадную лестницу, зал, увидеть фотографию Алексея Александровича. Люди живы, пока жива память о них.
Но если дедушку со стороны отца я никогда не видела, и его образ навеян фотографиями и рассказами его дочери, Татьяны, то дед со стороны матери жил вместе с нашей семьёй до смерти в 1962 году. Он прожил бы и дольше, если бы не спрыгнул на ходу со ступеньки троллейбуса. Ударился о бордюр и ночью умер от разрыва застарелой каверны.
Был он сух, костист, к старости сутуловат. На московской улице его голова возвышалась над прохожими, и мы издали замечали его, на одной из дачных фотографий он – над вымахавшими кустами георгинов, над домочадцами. Глаза – как небо после ненастья, ещё не голубое, но уже не серое. Нос крючковат, в оспинках. Кадык упирался бы горбом в тугой ворот френча или мягкую старорусскую рубаху, подарок его старшей дочери, если бы не расстёгнутый ворот.
Родился он давным-давно – аж в 1882 году. Почему-то любил припевать «Тула, Тула, Тула я, Тула – родина моя», хотя крестил его пастор Дикоф в Москве, в соборе Петра и Павла. Нарекли Георгием Константином. Этого второго имени ни я, ни мой брат, ни соседи не знали, а звали просто Георгий Александрович, а его сестра Саша, то есть Александра Розалия, и моя бабушка, Елена Николаевна – его жена Лёлечка – звали по-домашнему – Жорж. Это имя ему очень шло.
Родители Жоржа жили в Петербурге, но по совету друга семьи, восприемника их многочисленных чад, аптекаря Иоганна решили, что детей пора спасать от непрекращающихся петербургских бронхитов. Конечно в Москве, где же ещё, лишь бы работу найти! А потому статский советник инженер-технолог Александр Георг и его супруга Екатерина Амалия, урождённая Сеппи, тронулись в путь.
Европейский Петербург, церковь святой Анны, могилы родителей – Карла и Вельгемины Екатерины, урождённой Рель; всеми любимый оперный театр, где служил капельмейстером Карл, и мелькали милые родные лица – всё навсегда осталось в прошлом. Не осталось следа от могил, от партитур сыгранных и несыгранных Карлом опер…
Никто никогда не узнает, откуда пришли эти обрусевшие Гофманы, какими были они, их близкие и не очень, например, г-н Георг Вейс, учитель музыки, или г-н Иоганн Эрнштремъ, аптекарь, или девицы Каролина Гофман и Мария Гергардт, а также известный всем пастор Анненкирхе5 М. Мориц.
В моей памяти нет-нет да появляется фигура деда или его старшей сестры Саши. В семье до рождения деда –только девочки. Кроме тёти Саши, Ольга Фредерика, София Екатерина, Виктория и Маргарита Антония. Хоть они и воспитывались одними и теми же строгими гувернантками, повзрослев, стали разными. Викторию и Маргариту объединяло музицирование. Они брались за всё: аккомпанировали, давали уроки, работали тапёршами в кинозалах. Постоянно болели, их донимал кашель, а туберкулёз, в который перешёл их детский петербургский бронхит, так никогда и не вылечили. Виктория (племянницы называли её тётя Витя) – тихая, мягкая, мечтала о замужестве, семье, детях. Но всех её женихов разметала бурная, непредсказуемая Маргарита Антония, в которую влюблялись с первого взгляда все претенденты сестры. Маргарита же над ними подшучивала, рисовала шаржи в скромном девичьем альбоме… Викторию и Маргариту похоронили на самом далёком кладбище. Теперь на этом месте – парк. «Ничего, – говорил дедушка, – в парке часто играет музыка, а они её так любили». Тётя Витя умерла тихо, а Маргариточку почему-то отправили умирать в психбольницу. Только и осталась в семье память – засушенная маргаритка в старой немецкой книге.
Цветок Ольги Фредерики к небу взметнулся, обернулся громадным родовым древом с листьями вечными и памятью на века.
Дед – единственный мальчик в семье, а потому божок, ему разрешалось всё: в ботиночках на кровать, получать тройки, курить, съедать по две порции фисташкового мороженого, но, как ни странно, он не стал ни изнеженным, ни капризным, очевидно, русская жизнь к этому не располагала.
Девочек воспитывала гувернантка, она говорила с ними по-немецки, и их русский навсегда остался с акцентом. У дедушки же была русская няня Маня, что тебе Арина Родионовна: и сказки, и песни, – вот и стал для деда русский родным.
Окончил он Комиссаровское6 училище. Хасан и Талпа, однокашники по училищу, приятельствовали с ним долго, Хасан маленький и круглый, а Талпа – худой, выше деда; они заходили иногда к деду, и я разглядывала их с удивлением и интересом…
Служил дед исправно в разных технических должностях. До революции – Работный дом7. Рассказывали, что в феврале семнадцатого дед ходил с красным бантом и пел Интернационал. После ноября пришлось искать новое пристанище, не стало ни работы, ни дома. Жена, дочки – шести и восьми лет. Хорошо кое-что женино удалось перевезти в маленькую каморку, что над аркой. Холодно, сыро, а всё-таки крыша. Над ними – Лёлечкина сестра с семейством, она и помогла с комнатой в доме, принадлежащим когда-то большому клану Майковых, в котором все «от литературы»: кто издатель, кто литератор, а один – даже известный поэт. Поблизости, напротив пожарной каланчи, Лёлечкина мать, сестры незамужние, брат. Рядом – Пименовский храм. Жена с дочками, её сёстры в праздники, а когда и в будни – в родном приходе; младшая дочь Вероника – моя мама – в хоре. Священник, Отец Николай добрый, будто бы свой. Придут из храма, а папа им что-нибудь вкусненького припасёт, буржуйку затопит. Сам-то он в храм не ходил, протестантские церкви после революции закрыли. Но родительскую Библию, напечатанную готическим шрифтом он берёг. Помню тонкий пергамент между иллюстрациями, сверкающими небесно-голубыми одеяниями и золотом нимбов. А распятие? Вырезанное из слоновой кости, в тёмной, почти чёрной раме, где бы дед ни жил, оно висело над фотографиями родителей.
Позже дедушка с женой и дочками перебрались на второй этаж флигеля: низ каменный, верх деревянный.
Осенью сорок первого принял дежурство в Мосводопроводе. В шутку ли, всерьёз ли кто-то, прежде чем брякнуть дверью, бросил «Вам-то ничего не будет, а нам опасно. Переждать надо». С этого дня дед надолго забыл про бронхит, перешедший в туберкулёз, зарубцевавшуюся каверну. Дежурство сменяло дежурство, дома почти не бывал.
Позже, когда немцев отогнали от Москвы, случилась с ним какая-то болезнь, с которой якобы не живут. Сам Очкин8 поставил ему окончательный диагноз и из больницы выписал. Только всё вышло иначе: гомеопатические шарики, которые давали деду просто так, без всякой надежды, прорвали что-то, и он ожил.
Смерть деда обходила. Не тронула она его и в деревне, куда в первое послевоенное лето привезла отца старшая дочь, моя тётя Зина, Зиночка. Сгрузили с поезда, перетащили на телегу, устланную сеном, тряпьём. Положили на кровать с набалдашниками, пружинным матрасом у самого окна, чтоб божий свет, лучом падающий на подушку, оживлял бледное после болезни лицо.
Движение листвы, свет, тени, запахи, звуки из окна (днём их всегда держали нараспашку) отрывали его голову от подушки, звали в сад, на раскладушку, с раскладушки – за калитку, где простор до горизонта и далёкие, прижавшиеся друг к другу, избы.
В грозу дед брал стул, открывал на террасе дверь, садился у самого порога так, что капли дождя, нет-нет, да и брызгали ему на лицо, руки, одежду. Домашние его ругали, а ему – хоть бы что. Хорошо ещё, если гроза с дождём, тогда, думали они, не так опасно, а если сухая… Как-то раз влетел золотой светящийся шар, покружил на террасе, заглянул в комнату, вернулся, повисел над дедом и отправился куда-то, растворившись в воздухе.
– Шаровая молния! Видишь, когда гроза, двери-окна закрывать нужно!
Но он своей привычки так и не изменил…
Последние годы дед прожил в том же самом закутке, где когда-то просвистел над ним осколок. Громадный двухтумбовый стол, в правой тумбе – пузырьки да хлам, а в левой – всё бумаги какие-то. Любил дед вечерком, когда все улягутся спать, что-то писать. Над кроватью у него – карта СССР, самодельный календарь, там клеточки – красные, чёрные (чёрных – больше); маленькие фотографии детей, внуков, все под одной рамочкой, жена Лёлечка. Вот молодая, вот постарше – с вуалькой…
Наушники. У входа в закуток – полка с книгами по математике, черчению. (После болезни дед преподавал черчение и начертательную геометрию в техникуме). Но при мне он уже не работал, а просто жил.
Когда бабушка умерла, дед пришёл из больницы, сел на стул посередине комнаты прямо в пальто, и долго сидел так, опустив веки и глядя в одну точку. А потом я увидела его глаза. В них уже не плескалась голубизна, а только серело, как в предзимье, когда дождь со снегом, и день короткий. Обручальное кольцо, золотое, снял и отдал дочери. «На, – говорит, – мне теперь не надо, может, продашь». А потом он стал делать крест, прямо в квартире, в своём закутке, и все удивлялись, почему он делает лютеранский крест, ведь бабушка была православной. Но никто и рта не открыл, не посмел.
По-немецки он иногда говорил со своей старшей сестрой Сашей, которая до глубокой старости ходила в гувернантках в именитых советских семьях, где детей учили языкам и определяли на дипломатическую службу. Нам язык не достался. Считалось, что нам он ни к чему. Даже вреден.
Иногда Саша приносила ему что-нибудь почитать на немецком, но чаще я его видела с «Известиями» или в наушниках.
Вечерами, когда семья собиралась за столом под оранжевым абажуром, он вместе со всеми пил чай. На его большой с толстыми стенками кружке веселились охотники, возвращавшиеся с добычей. Кружка пришла из какой-то доисторической, до моей, жизни, со сколами и мелкими трещинками. Никто никогда, кроме деда, из неё не пил, а после его смерти она исчезла вместе с френчем, молодцеватым полушубком и печальным тёмно-серым пальто, в котором он становился старым, сгорбленным…
Со смертью дедушки закончилось моё детство и отрочество. Началась совсем другая жизнь.
Теперь в утренние и дневные часы я работала, а вечером училась. Но иногда случались и выходные…
Мемуар 11. Пепельница
Как парижане высыпают на Бульвары субботними вечерами, так и москвичи с незапамятных времён стирают в эти часы подошвы на Тверской. Когда-то эта улица носила имя писателя, от которого начинался литературно-исторический променад. От Горького, где кружилась вокзальная жизнь, к Маяковскому, Пушкину, Юрию Долгорукому, к самой Красной площади и если у кого-то оставались силы и «мани-мани», круглосуточной «Пельменной». Юные обитатели окрестных улиц и переулков, старались выглядеть не хуже золотой молодёжи. Летом это удавалось. Яркие попугаи и пальмы на рубашках, узенькие брючки, коротенькие юбочки и платья с нижними юбками, и в обнимку – на «Бродвей»!
Мой ареал начинался Маяковским и заканчивался Пушкиным. Надевала одно из своих платьиц, сшитых тётей Таней: из венгерского ситца, рябом, бело-голубом или из жёлто-розовой жатки и прогуливалась со слесарем в светлой рубашке и тёмном галстучке-шнурке. Кажется, парень хотел на мне жениться, что в мои планы не входило. Я собиралась учиться. Но кто же откажется прошвырнуться с красивым парнем по «Бродвею»?!
Помню, у памятника Маяковскому собиралась молодёжь, и, если удавалось протолкнуться к постаменту, мы видели и слышали настоящих поэтов. Среди них Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский! Это производило впечатление! Наполняло энергией!
И вот этот рефрен:
«Всё – кончено!
Всё – начато!
Айда, в кино!»
давал такой сильный толчок к радости начать жизнь по-новому, что до сих пор верится в возможность этого.
Беллу Ахмадулину я увидела и услышала в Доме актёра. Лебединая шея «серебряной флейтой» устремлена ввысь, каждое слово сопряжено с его изначальным культурным смыслом и звучанием, выговаривается так, будто важна каждая буква. Четыре поэта, четыре непохожести, четыре вектора. Как трудно выбрать самого нужного тебе, твоей душе. Я выбрала Беллу:
Это я – в два часа пополудни
Повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на флейте,
Мне щекотно от палочек фей…
В споре физиков и лириков я не участвовала. И те, и другие витали в облаках. Я ходила по земле. Ни поэтом, ни шестидесятником не стала, но ощущала их своими старшими братьями, с которыми жила в одно и то же время, в одной и той же стране. Восхищалась ими, пересматривая «Девять дней одного года», слушая пластинки Б. Окуджавы и В. Высоцкого. Песни Булата Шаловича тонкие, задушевные, наполнены таким глубоким лиризмом, что и сегодня печалят, радуют, вызывают ностальгию. Песни Высоцкого тоже не утратили своих смыслов. Жёсткие, ироничные, наотмашь. Голос, совесть времени – это он.
Среди моего окружения песни Окуджавы и Высоцкого воспринимались разными людьми по-разному. Кто-то мог часами слушать первого, но второго воспринимал с трудом, его хриплый с надрывом голос раздражал. Конечно, таких было меньшинство.
Походы, песни под гитару, байдарки, к сожалению, почти прошли мимо меня. Удалось лишь несколько раз приобщиться к крутым тропам и рюкзаку, когда «волной набегая, тронул вальс берега»9 …
Мой двоюродный брат, Всеволод – вот кто заядлый походник! А я…лишь помогала отцу строчить для него палатку по польскому образцу.
Брат женщинам нравился. Высокий, ладно скроенный; чёрные волнистые волосы, и под цвет им – глаза. Лишь небольшой изъян: мягкие и пухлые губы, которые, повзрослев, он прятал под аккуратной бородой и усами.
Не знаю почему, но я в детстве мечтала получить от него подарок. И как-то, в самом конце весны, в то время, когда расцветают ландыши, сирень и каштаны, и начинают петь соловьи, он подарил мне пепельницу, размером с небольшую розетку. И как только ему удалось найти для неё заготовку! Тонкое переплетение корневищ, кружевные очертания древесных волокон и прозрачный лак – просто какое-то волшебство. Парадокс, но я отнеслась к подарку довольно равнодушно! Правда, первое время часто протирала пепельницу и переставляла её с места на место. Но не прошло и двух лет, как ко мне, уже восемнадцатилетней, стали заглядывать в гости молодые люди. В отсутствии моих родителей они иногда покуривали и стряхивали пепел в ту самую пепельницу…
Однажды, когда состоялось какое-то семейное сборище, зашёл и брат, вернувшийся из очередного туристического похода. После бесед, винегрета, докторской и чая, он присел у моего стола, взял свою пепельницу, покрутил в руках, посмотрел на обожжённую древесину, остатки пепла, провёл по ним пальцем и взглянул на меня печально и недоумённо.
– Что это?
Я пожала плечами.
В тот вечер пепельница пропала. Больше я никогда её не видела, о чём теперь сожалею. Ума не приложу, куда она делась!
Да, вещь можно потерять, сломать, её могут умыкнуть, но остаётся память и, пока голова на плечах, «живут во мне воспоминания»10. О людях, вещах и датах.
Яркие вспышки: 12 апреля, 1961 год. Открыты настежь окна в классе, из громкоговорителей Менделеевки раздаётся ликующий голос диктора «После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полёта…» и мы, школьники, как сумасшедшие, несёмся на Горького!
9 мая, 1965 год. Тороплю отца. Он смущённо улыбается, достаёт из коробочки ордена и медали. Разглядывает их, перебирает:
– Этот тоже? – спрашивает он меня, и крутит в руках знак «Отличный разведчик». – Ещё одну дырку надо делать.
Как мне хотелось, чтобы прикрепил и этот.
Но костюм почти новый…
Идём на Горького. Фронтовикам вернули День Победы!
А женщинам подарили ещё один повод для получения подарков и суеты на кухне: 8 Марта объявлен днём не рабочим.
Так в дома граждан и товарищей пришла новая эпоха: на престол взошёл Брежнев!
Мемуар 12. Антоновские яблоки
Для многих советских людей время текло однообразно и тускло: очереди на квартиру, за продуктами, импортной одеждой, поскольку отечественная шилась криво и косо. Всюду царствовал блат. Кому-то стало казаться, что нарушаются нормы партийной жизни, и они пытались доказать несправедливость. Вот тут-то на помощь с правдолюбами пришла психиатрия.
Помнится рассказ мамы о её знакомом, попавшем в психиатрическую больницу прямо с работы. Будучи начальником отдела, он пытался справедливо распределить премию между сотрудниками, не секрет, что за работу, выполненную подчинёнными, премии получало начальство, исполнителям причитались лишь утешительные призы. Отказался от своей премии с нулями, за что оказался в жёлтом доме. История повторилась дважды. Во второй раз состоялась доверительная беседа с врачом:
– Я понимаю, – якобы говорил врач, – вы боретесь за правду. Вы человек честный и в современной жизни вас не всё устраивает, но эта борьба может причинить вам и вашим близким много горя. Если попадёте к нам в третий раз, я не смогу помочь. Очень прошу вас играть по существующим правилам. Вы – человек нормальный, и должны понимать, что не в наших с вами силах изменить что-либо. Обещайте мне.
Пациент обещал…
Что же до меня, то в первые годы работы в библиотеке я постоянно ощущала на себе начальственное око. Создавалось неприятное чувство присмотра, контроля. Боюсь, что и сегодня оно царит в обществе. Как досадно, работая с полной отдачей, замечать слежку. Обидно и то, что, проработав с пятнадцати до семидесяти лет, мои финансы поют романсы. Пели они и у моих родителей. Помнится, зимой, после смерти мамы к нам в квартиру позвонили люди, назвавшие себя погорельцами, и попросили что-нибудь из одежды. Я вынесла им мамино зимнее пальто. Нормальное пальто, тогда все в таких ходили. И что же? Его кинули мне в лицо, оскорбившись, что сую обноски.
Наверно, так оно и было. В нашей семье одежде всегда уделялось мало внимания. Но нет ли во мне некоторого лукавства?
«Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой» – это не о нас, это о Моцарте, среди нас он не наблюдался… Меня окружали инженеры, чертёжники, бухгалтеры, машинистка и библиотекари. Последние на много лет стали моими спутниками. Некоторых вспоминаю отчётливо, вижу их взгляд, слышу голос.
Вот Зоя Арсеньевна Курехина. Строгая пожилая женщина с седым пучком на затылке. Окончила дореволюционную гимназию. Знала четырнадцать иностранных языков. Руководила библиографическим отделом Центральной научно-технической библиотеки пищевой промышленности. Это особенный отдел: здесь работали не только с советскими, но и иностранными книгами и журналами. Зоя Арсеньевна прежде, чем новый сотрудник занимал равноправное место в отделе, долго работала с ним, обучая особенностям перевода, знакомя с терминологией, тонкостями производства. Часами она сидела то с одним библиографом, то с другим в читальном зале и тихо, каким-то «пергаментным» голосом, разжёвывала, вбивала в голову, доводя мастерство своих подопечных до совершенства. Иногда выходила в коридор, где курила, держа в руках иностранный журнал. Время от времени одаривала нас бесплатными абонементами в Дом актёра. Там я впервые услышала Ахмадулину.
Антонина Борисовна, или как библиотекарши называли её между собой, Антонина, заведующая абонементом, казалась мне очень советской. Пока меня не перевели в патентный отдел, я работала с ней, но так и не прониклась к ней ни уважением, ни симпатией. Впрочем, как и она ко мне. Директором библиотеки в то время был старый большевик, Александр Алексеевич Павлов, работавший когда-то с Крупской и собиравший пищевую библиотеку по крупицам. С ним сложились отношения благоприятные, и, пока его «не ушли» на пенсию, он мне покровительствовал.
Открывалась библиотека в восемь утра и, что сейчас кажется удивительным, тут же, особенно в период зимней сессии, читатели устремлялись к кафедре, и в длинном коридоре, заставленном картотеками, выстраивалась очередь. Это время погони за книгами (как научными, так и художественными) – отличительная черта семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия. И книжные разговоры.
С ностальгией вспоминаю то время, когда, суетясь у каталогов (алфавитный, систематический, предметный), помогала студентам, аспирантам и учёным мужам найти нужную книгу или статью. Небольшой читальный зал Центральной научно-технической библиотеки пищевой промышленности, в некоторые дни забитый до отказа, не отличался ни уютом, ни удобствами, но иногда, так как в отделах не хватало места, в нём кроме читателей работали сотрудники.
За выступом, около окна, редактировала библиографические указатели, прочитавшая все возможные книги ещё в педагогическом, пышнотелая, с яркой помадой на губах Фира. В мои двадцать, она, тридцатипятилетняя, казалась мне пожилой. Мучнисто-белое зимой и летом лицо, чёрные с серебристыми прядками волосы, тёмное, летом – с красными цветами платье. Приходила ровно в восемь, уходила в пять. Тихая, необщительная. Иногда, во время обеденного перерыва мы встречались в «стекляшке», где за двадцать копеек подавались две оладьи и стакан чаю. Тогда-то я и узнала, что живёт Фира одна, в коммуналке, в квартире ещё одна чужая семья. «У них дочка, такая милая, а как наденет костюмчик лыжный, он так ей идёт, к ней заходят приятели, и пока она собирается, я выхожу из своей комнаты и любуюсь на них, молодых, симпатичных». Как-то, когда она рассказывала о своём сыне, как всегда спокойным и невыразительным голосом, я случайно дотронулась до её руки, ледяной и влажной. «Сын живёт с мужем, мы в разводе. У него жена очень хорошая, они мне сына иногда в выходной привозят, но ему у меня скучно, побудет немножко и звонит отцу, чтоб забрал. Летом с родителями мужа на даче или на юг с ним ездит, иногда в поход. Хорошо, я довольна. А я бы куда его дела?! Я одна, никуда из Москвы не езжу, а то съешь что-нибудь, потом на больничный, нет, я в Москве». И так мне становилось, глядя на Фиру, грустно, что иной раз могла бы в эту «стекляшку» и не ходить, а пойти с девчонками в столовую или попить чайку в хранилище на подоконнике, но мне казалось, что Фире будет приятно, если я пойду с ней…

