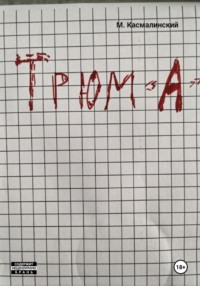полная версия
полная версияПуть с войны
Задать вопрос земле нескромный: скажи планета, что ты желаешь, какой бы народ расселить по всем континентам? Для счастья, безмятежности, гармонии, и для труда и ухода. А земля, допустим, в ответ: все племена мне как дети милы, желаю лишь в них воспитать бережливость. Чтоб без помоек в пойме реки, чтоб без бутылок по берегам, чтоб без пластмассовых свалок в лесу и без заразных бацилл в озерце, чтобы рачительность и любовь. Нужно беречь природу. Это не храм, не мастерская, это – твой дом. Так не тащи все из дома, как последний алкаш. На Марс полетишь не скоро, так что не отдаляйся, не рви, иначе умрешь, как погибает ребенок в утробе, если порвет пуповину.
Свечой догорал костер, заря вечерняя разгоралась. Из дома вышел мужчина. Ырысту не сразу заметил, а увидев движение, спохватился, приставил прицел к глазу. Так и знал: не одна живет фрау на ферме! Хорошо, что затихарился.
Мужчина был в одном исподнем. Он тяжко шагнул с крыльца, руки его крест-накрест прижаты к груди. Резкие морщины у губ, обвисшие щеки, белые одежды создавали облик великомученика. Он подошел к еле дымящемуся костровищу и опустился на колени. Ырысту удивился, увидев, что человек нагребает с боку костра золу и сыпет на себя. Бессмысленно, как сомнамбула, посыпает макушку пеплом. Потом он начал раскачиваться взад-вперед и выть. Выть, выть, сбиваясь на визг, словно попавший в капкан щенок.
Это длилось какое-то время, Ырысту успел проглотить две галеты. Вышла из дома фрау, подняла от золы псевдомученика, повела его в дом, гладя по голове, от чего с рыжеватых волос, как мошкара, слетала бесцветная пыль.
Подождав пока стемнеет, Бардин перелез ограду. В доме не было света, только в окне подвала можно заметить небольшое свечение. Ырысту прокрался к тому окошку, заглянул.
В подвале перед большим деревянным распятием стоял на коленях гестаповец. Был он все в том же исподнем и руки все также у груди. Человек бился лбом об пол. Потом замирал в коленопреклоненной позе и снова клал поклоны.
Кается, подумал Ырысту. Переживает. Или рехнулся. Или скорбит по Гитлеру. Типа «тяжелая утрата, ушел от нас наш дорогой вождь и учитель, национальный лидер и прочая, прочая, прочая». Сами немцы виноваты, сделали себе кумира из больного на голову пигмея. На престоле лидер нации в агрессивной дымке. Вы хотели коронации – хавайте Ходынку!
Так вам и надо, подумал Ырысту. Кайся – не кайся, а получили по справедливости.
Понаблюдал немного за гестаповцем. Ырысту пытался в себе разогреть злорадное торжество, но не получилось.
Надоело.
Пробрался в сарай, лег на солому, увидел звезды в прорехах дранки. Звезды… Солнце тоже звезда. Пятиугольная звезда – знак сатанизма, ставший советским символом. Начальству виднее. На фуражке на моей серп и молот и звезда, как это трогательно… На самолетах и танках тоже красные звезды. Танк находится на постаменте, вокруг молодые люди, одетые одинаково. «Россия для русских», – кричат они, взметнулись в приветствии руки. Зигуют, «Россия для русских», а у самих в красном углу – икона грузина.
Ырысту быстро снял гимнастерку. Срочно бросить в огонь! Дуло танка накренилось прямо на него. «ИС – 2» по кличке «кувалда». Переметнулся, сука! Вот бы гранату. Жорка, атас, граната! Я не в деле, товарищ колдун, пойду себе второе ухо оторву.
Костлявая рука легла на плечо, Ырысту испугался, выронил гимнастерку. «Подними», – сказала старуха, стоящая за спиной. Обернулся: бабка в советской форме с петлицами, как до войны. «Что, предатель? Добрался на Родину?», – холодно засмеялась она. Ырысту побежал. Долго бежал, чувствуя сзади ледяное дыхание. Потом провалился. Надолго и глубоко в уютную мягкость небытия, пешеходное небо свернулось, обволокло, увлекая все дальше и дальше.
Когда выбрался, старуха стояла у пропасти в маршальском кителе и галифе. Она захихикала, вывихнув вбок подбородок, глаз ее выпал, повиснув на тонкой жилке, склизкой, кровавой. «А ты не узнал меня? – пропела старуха. – Я Феликс Счастливый Волков. Чекист и смотрящий над смертью». Ырысту опять побежал. Вслед доносилось: ты меня не похоронил! Звери рыскать не будут! Птицы не запоют! А ты будешь теперь маршировать!
Марш, марш левой! Марш, марш правой! Не видел толпы страшней, чем… скованные одной цепью, связанные одной целью. За красным восходом – коричневый закат! Вы нам еще понадобитесь – Прозит, Борис Николаевич! Поня-атно зачем понадобились, поня-атно. Хоть землю крестьянам дали. Вишня, вишня! Зимняя вишня-а…
Ырысту бежал по улице, навстречу толпа, толпа заполонила всю видимость. Это дети в военной форме. Маленькие дети! Они облепили Ырысту и кусали его за ноги. Вы смертеныши? Это вы? Он пытается вырваться, убежать. Его догоняют и царапают бедра, глодают голени, кусают ступни…
Вскочил, проснулся, подышал. Кошмарный сон. Ух. Такой кошмарный мерцающий сон последний раз видел еще до войны, когда отходил от запоя. Пил две недели, отходняки, белка в пути, уже едет, и бред. Только тогда ноги кусали-царапали не дети, а дикие шестиногие кошки.
Ырысту натянул сапоги, и крадучись, вышел из хлева, уже рассветало. Как можно скорее покинул хутор. Вышел на тропу. Уверенной походкой двинул на восход.
***
С веранды слышалась шипящая музыка, в саду шуршали ветками вязы, кусты кудрявились ярко зеленым, а стебли тюльпанов скорбно усохли – их время прошло. Японец в соломенной шляпе щелкал садовыми ножницами и поглядывал на влюбленную, кажется, пару: на скамейке сидела Вилена, держала в руках букет полевых цветов, рядом топтался смущенный Борис
– Поздравляю с первым днем лета, – запинаясь, сказал он.
Больше недели группа Загорского жила на загородной вилле, где Сметана задержал повара-японца, который милостивым велением Ростислава был переведен в садовники. На вилле воссоздана база – стол для планерок, карта на стене, бумаги и пепельницы. Курьеры, вестовые, посыльные таскали информацию. Загорский уже оббегал округу, раскинул везде свою паутину, теперь сидел в кабинете, думал и ждал.
А Борис все пытался сказать Вилене нечто важное, но она уклонялась от разговоров, переводила тему. А чаще всего – им что-то мешало, может судьба.
Вот и теперь. Калитка протяжно проскрипела, в саду появился Владимир Ветров. При параде, в сопли пьяный.
– О! – он увидел Бориса с Виленой. – Голубки! – Ветров направился к ним волевым собранным шагом.
Но в середине пути сбился, оперся рукой на дерево, росшее в двух метрах от тропинки.
– Вильнуло, – сказал Ветров и скабрезно подмигнул Вилене.
– Здравия желаю, товарищ майор, – сказал Борис.
– День рождения у меня! – заявил Ветров.
– Поздравляю.
– Лейтенант! Помогите старшему по званию добраться до места дислокации. А то сма-ари: приехали каки-то долбоклювы.
У ограды останавливался «Вилис». Борис обхватил майора за пояс и повел его в дом. На дорожке их обогнал Сметана, который ничего не сказал, а одним шагом влетел на крыльцо, что было для него несвойственно в силу здоровья и возраста. Значит, есть новости, подумал Борис.
А Ветров вывернулся из рук Бориса, закружился всем телом, как тощий щенок, ловящий свой хвост, чуть не упал, в итоге оказался возле девушки, встав на одно колено.
– Сударыня! Прошу прощения за пыльный свой майорский макинтош.
– И непотребный вид, – беззлобно сказала Вилена.
– День рождения! Имею право. А у меня… то есть по старой э-э традиционной традиции в свой праздник дарю подарки. Па-азвольте ручку.
Ветров взял Вилену за безымянный палец, и вдел его в спусковую скобу маленького пистолета.
– Обручимся по обычаю, – майор попытался чмокнуть ручку, но Вилена отняла ладонь, с восторгом воззрившись на подарок. Букет, подаренный Борисом, был брошен на край лавки.
– Ништячный монтик, – восхитилась Вилена. – Браунинг.
– Дамский, – уронил голову Ветров. – Вещь. Я знаю, что вам по сердцу, сеньорита.
Тут майор оглянулся на Бориса, взглянул с пьяным презрением, и тому ничего не оставалось, как уйти в дом.
Загорский наблюдал за этой сценой сквозь щелочку меж штор. Он занимал кабинет на втором этаже. Тут Загорский ограждался от внешнего мира плотными шторами, включал настольную лампу и размышлял обо всем и ни о чем. Его беспокоило, что поиски Бардина затянулись на три недели – это подмачивает репутацию. Хотя нет! Репутация это нечто внешнее, на нее плевать по большому счету. Долгий срок охоты бьет, прежде всего, по самомнению, а самомнение – вещь, безусловно, важная, как для отдельного человека, так и для сообществ. Да. Для государства тоже должен бы быть важным статус в собственных глазах. Но государство – контора гибкая, легко меняющая принципы, непринужденно оправдывающая себя за самые чудовищные преступления. Даже наисоветский и суперсоциалистический Союз республик, двадцать лет декларировавший невозможность пути назад, при серьезном шухере призвал на помощь российского имперского орла: «Прошлое! Обними крыльями!». Отсюда и погоны, и офицеры, и полководцы. Оно не в падлу вспоминать за нафталин, но зачем было подписываться в новый мир и светлое будущее. Как там у Ленина? Нет спасения человечеству от войн, от голода, от жертв вне социализма. Социализм. Он не получился, это следует отметить с особым удовлетворением. Советская власть, как коллективная власть трудового элемента, оказалась невозможной для русского народа, ибо не хочет, ибо лень. Им суешь в зубы это местное самоуправление, а они – да вот денег нет, людей нет. Мыслей нет, дайте директиву. Просим указаний, исполняем, рапортуем. И – к лучшему. Для служивых людей казарменное государство предпочтительнее, чем социализм. Тем более, теперь, после войны та роль, которую играли военные, должна вернуться к внутренней службе. Рост преступности нам обеспечен, так что работа, несомненно, будет. На годы вперед игра, а там можно будет и на заслуженный отдых. Поселиться в таком вот доме, как эта вилла, с камином и креслом – качалкой, писать мемуары, учеников натаскивать. Из Борьки, например, хороший выйдет розыскник, все для этого есть, кроме… Оперативного зуда нет – жаль, а этот азарт не заразный. Бориска рос с самого детства перед глазами, обитали с его родителями в одной коммуналке. Умный был ребенок, весь в формулах, в цифрах. В юношестве Борька тем же образом был поглощен всей этой ерундой имени Лобачевского, не работал, а беспрестанно учился, жил, что называется, как дятел опилочный. А со стартом войны вдруг объявил: я на фронт. Матушка его в шоке, отец в прострации: сын, с такой золотой головой, и на фронт! Благо сосед – человек не только разумный, но и проницательный, в людях понимающий. Отговорил, притом предложив более полезную перспективу. Так Борис оказался в опергруппе, о чем, надо сказать, Ростислав ни разу не пожалел. Сам Борис, да – сомневался. Но после нескольких удачных дел это прошло.
В кабинет без стука зашел Сметана. Вразвалочку протелепал к столу, уселся напротив Ростислава, выдержал паузу и с напускным безразличием сказал:
– Взяли. В госпитале ныкался. И карточка при нем.
Загорский тоже выдержал паузу, потом вскочил, оказавшись у окна. Он раскидал тяжелые шторы, распахнул створки, затянулся душистым воздухом сада.
В саду у скамейки стоял майор Ветров и говорил Вилене плывущим языком:
– Будем фрицев перевоспитывать, деваться некуда! Не все они… Были и антифашисты! Вот хозяин этого дома, барон… да-а я читал бумаги, он в заговоре был против Гитлера. Надо думать не из идейных предпочтений, а вроде из чванства своего высокородного. Но, тем не менее, против! Так он барон! А простые разумные немцы, нормальные немцы, как им было сделать выбор между патриотом и антифашистом? А?! А?! Сложно! Выберешь антифашизм – станешь предателем для своих, а другое выберешь – хоть и паршивый шовинизм, фашистский, агрессивный, но свой ура-патриотизм – себе изменишь, получается. Эх, Феликс, Феликс. Мы с ним частенько спорили об немцах. Об фрицах. Правда, нормальных извели, но были же они, были! Ну а почему вроде? Ничего не кончилось! Этот выбор еще сто лет будет актуален, выбор между патриотом и антифашистом.
В это время по садовой дорожке братья Гавриловы провели в дом парня азиатской внешности в неопрятной гимнастерке. Ветров проводил конвой удивленным взглядом и словами «А это кто за чудо?». Вилена поднялась со скамейки, и направилось было за близнецами, но вернулась и взяла с края лавочки маленький букетик цветов.
Загорский вышел из кабинета и, чуть ли не катясь по перилам, спустился в гостиную, куда как раз ввели рядового Бардина. Выглядел тот неважно: и без того узкие глаза заплыли, цвет лица был грязно салатовым, горло перевязано марлевой повязкой. Бардина усадили на стул.
Сверху по лестнице степенно спускался Сметана.
– Я еще думаю, – говорил он. – Не дыбануть ли нам фигуранта в госпитале. Исай, подтверди, я же так и сказал. И тут вот он в списках. Бардин. Лежит, понимаешь, с ранением в горло. Так что он, Васильич, разговаривать не могет.
– Ах, ты мой родной! – Загорский потрепал Бардина по щеке. – Как же долго я тебя ждал!
Доставленный ничего не понимал, только затравленным взглядом водил по сторонам.
– А вещи его? – спросил Ростислав. – Документы?
– При нем, – доложил один из Гавриловых. – Вернее вот – он положил на стол вещмешок.
Прежде чем приступить к осмотру вещей Загорский еще раз внимательно осмотрел Бардина. Все в цвет, все по приметам, но что-то не вязалось. И документы, красноармейская книжка… стоп! Пальцы! Пальцы дрожат. Пальцы трясутся до самой ключицы. Бывает, конечно…
Загорский схватил со стола первый попавшийся лист бумаги.
– Бардин! Взгляните. Что здесь написано.
Ростислав стоял метрах в двух от задержанного, но тот все равно, чтобы прочитать не мелкий текст, подался вперед, сощурился и, прочитав, кивнул.
– А наш – снайпер, – сказал Загорский, открывая красную книжицу. – И отчество другое. Николай Прокопьевич! Отчество!
Сметана тянул руки к Исаю Гаврилову.
– Ты ж смотрел! И баба на фотке, – Сметана протянул Загорскому карточку.
Загорский мельком взглянул.
– Обычная порнография. Даже не обычная! Качественная, – Ростислав запихал фотокарточку в нагрудный карман гимнастерки Сметаны. – Отличная такая порнография!
Загорский подумал, что самое мерзкое чувство это разочарование. Уж лучше безнадега. А разочарование… эмоция-паралич.
Ростислав отошел к дальнему окну. Сметена просеменил за ним, ворча на ходу:
– И главное – признался, сволочь! Признался, что дезертир! И кто бы мог предположить, что полный тезка. А я вот сразу подумал, что не наш. Вот сразу такое подозрение. Но думаю надо всё проверить.
– Отвезите его обратно, – тихо сказал Загорский.
– Да пнуть под жопу, сам доберется!
– Трибуны вздохнули. Выше ворот пробил Николай Сметана, номер шестой. Наверняка, тренерский штаб произведет замену.
– Увезем, – сник Сметана. – Извинимся. Возьмем подписку о неразглашении. Ростислав Васильевич! Так этот родственник нашего, наверное. Может опросить на этот счет.
– Опросите, – махнул рукой Загорский.
Бардин, фраерок изгаляется над нами, думал Ростислав. Еще две, еще неделю назад – пес с ним, отберем карточку, а дальше пусть все идет, как идет, не наша компетенция. Шалишь! Теперь я тебя лично доставлю туда, известно куда. Это надо же, скотина такая! Да где это видано, чтобы человек пропал в действующей армии? Может, завалили его? Все равно надо вещи искать. Хорошо, есть тема, что он навестит могилы однополчан. Кривая тема. Сколько тех могил? Сколько однополчан?
Загорский повернулся на сивушный хриплый вздох, майор Ветров глупо грозил ему пальцем.
– Обмишурились?
– Вам бы поспать, товарищ майор.
– День рождения у меня, – сказал Ветров и сделал страшные глаза. – А в день рождения я по старой личной традиции не принимаю подарки, а раздаю их. Я не просто выпивал, а выпивал с кем нужно. Разговоры разговаривал. И кое-что узнал. Давайте сядем.
Они расселись за столом, майор продолжил:
– Коллеги взяли одного фрица, который служил где? В гестапоньке. Во-от. Поняв, что дело – швах, фриц свалил из поля зрения и что? Спрятался у сестры. Она там вроде ферму держит, коровы там, не суть. Допросили по фактам, но между делом промелькнуло, что гасился он на ферме и в одно утро видел, как из сарая выходит советский солдат и уходит, так сказать, по направлению к шоссе. Примечательно, что солдата фриц назвал калмыком. Вроде, что спрятавшегося гестаповца калмык не заметил, а тот тоже не афишировал. Расстались заочно довольные друг другом.
– Интересно, но не факт, – сказал Загорский, разочарование его еще не отпустило.
– Во-от. Поэтому я звоню, со ссылкой на Иванматвеича прошу еще раз просмотреть все как следует и что? Обнаружили.
Ветров замолчал начал шарить по карманам, при этом с хитрецой посматривая на Загорского, когда тот проявит нетерпение. Но Ростислав, понимая это, молчал, стерильно моргая.
– Обнаружили в сарае одну вещицу, – не выдержал Ветров. – Оптический прицел. Наш советский. Я звоню еще раз, ругаюсь, пыжусь, узнаю серийный номер и что?
– Он? – просиял Ростислав.
– Он. Провел ночь в этом сарае. Может прицел и другими путями туда попал. Но с вероятностью девяносто девять это Бардин. Трубите сбор, капитан.
– Где ферма? – спросил Загорский, вставая.
Ветров профырчал губами и показал на стену, где закреплена карта.
4.
Бардин на грузовой попутке двигался грязной дорогой. Ночью прошел убийственный ливень, землю размыло, сам Ырысту до нитки промок – он ночевал под деревом. Утром, кое-как высохнув, – благо, что солнце разжарилось, – Бардин вышел к дороге, где тормознул грузовик. В кузове кроме него сидели в два ряда вдоль бортов одиннадцать бойцов из разных полков, частей, родов войск. Двенадцатым был младший лейтенант Юдин – зеленоглазый чудак не от мира, он сразу представился Бардину, уступил ему свое место, а сам уселся у заднего борта, где, как известно, самая тряска.
Напротив Ырысту расселся на мешке солдат с ковшеобразной челюстью и звездой Героя на гимнастерке. Он непрерывно тер кончик носа, сжимая его двумя пальцами, отчего ползли из кожи бледные жирнючие угри длиной с половину спички.
– Спирт есть? – спросил герой.
– Выжрал уж, – ответил Ырысту. – Такой побед отмечал, отмечал, потерялся.
– Бывает, – солдат потерял к Ырысту интерес.
А Бардин наоборот. Он почувствовал вдруг, что этот герой СССР не впишется в новую жизнь, он привык убивать, и продолжит, он не сможет остановиться. Ырысту показалось, что под гимнастеркой солдата проступают татуировки, и самое мерзкое – воровскими наколками он будет гордиться, а не боевыми наградами. Кто лучше: такой ветеран-победитель или кающийся гестаповец?
Не впишется в мирную жизнь и другой, рядом сидящий, с протертой на терке упитанной харей, и даже не хочет, и планов не строит. Тоже самое, тот в тельняшке и тот вон хорек белоглазый. Тут Ырысту понял, что эти одиннадцать солдат расставятся по углам и…
Нет, эти герои должны были сгинуть – война иногда милосердна. Но нет. Запредельный провал. Этот десяток бывших бойцов разъедется по городам и примется мучить и грабить, насиловать и истязать, красть, убивать, вымогать . И множество жертв в тех местах, куда не дошла война, но дело ее продолжат вот эти. Ырысту вытер глаза, солнце слепит. А не ослеп? Может ошибка? Как там Кириллов сказал: сбывается раз на раз пополам.
Герой напротив расстегнулся до пупа и моментально заснул. Ырысту подумал, как верно, что едет домой – храп солдата напомнил рев марала.
Похожий на хорька клянчил у Юдина часы, то посмотреть, то поменяться. Курносый блондин бормотал: «Кот! А Кот, допьем, давай». «Там одонки», – сказал Кот, передавая фляжку. Курносый выдохнул, глотнул, поморщился, на лбу его моментально проступила испарина.
Вдоль дороги мелькали пышные липы в солнечной пыли. Ветерок от движения не сбивал запах пота, бензина и спирта.
Бардин попытался задремать под звук мотора, но тут грузовик сбавил скорость. Водитель нажал на клаксон. Машина притормаживала до полной остановки. Ырысту встал. Навстречу по дороге крались люди. Масса понурых людей, неуверенно ступающих на землю, как толпа слепцов, ведомая хромым поводырем.
Люди, в основном старики и дети, несущие в руках кульки и саквояжи, встретившись с машиной, обтекали ее, задевая колеса, борта. Головы втянуты в плечи, взгляды – только вниз, под ноги, и молчание. Идут, идут, тяжко и обреченно. Кое-кто держится за руки. Много их, конца не видно, толпу обрамляют солдаты в зеленоватых ромбовидных фуражках.
– Поляки. Мстят, – сказал Кот. – Изгоняют немчуру из Польши взад в Германию.
– Джень добры, брат-полак! – крикнул курносый одному из конвойных, тот помахал карабином.
– Теперь всяко можно, – недовольно прогундел Кот. – Всяко можно выгнать. Смелые! А в тот кон сами за месяц под фрицев легли.
– От Познани до Бреста пятьсот километров, – негромко сказал Юдин. – От Бреста до Смоленска тоже. И те же самые недели. Поляки – не слабаки, страна просто меньше.
Немцы тихо брели. Старик в нелепом картузе и тонких очках уронил чемодан. Колонна не замедлила шага. Из чемодана вывалились светлые рубашки. На них наступали, никто не решился поднять.
Курносый, перегнувшись через борт, хищно всматривался в толпу. Потом легко выпрыгнул из кузова.
– Кот, а Кот! – проорал он снизу. – Держи подгон!
Кот развернулся, наклонился. Довольно заржал, виляя крепким задом.
Согнул ноги, немного напрягся и заволок в кузов светловолосую девочку в сером сарафане. Бросил ее на настил, распластал, шлепнул ребенку на лицо свою чешуйчатую клешню, впечатал в пол затылком.
В безликой толпе коротко взвыла страшная женщина, не остановилась.
– Вы что? Ей же лет десять, – проговорил Юдин.
– Самое то! – рыкнул Кот. – Дырочка узенькая.
Девочка крючила острые коленки, из рук ее выпала тонкая тетрадка и раскрылась. Ырысту увидел разноцветные рисунки, детские рисунки – солнышко, кораблик…
Герой, сидящий напротив, разлепил веки правого глаза, плавно провел рукой по груди, животу, стал теребить в паху. Кот, не торопясь, поднимал девчушкин подол. Синяя заколка с прядью волос легла в засохшую грязь на сапогах одного из бойцов, который шумно дышал, широко открывая масляный рот.
– Ребята, так нельзя – простонал лейтенант Юдин. – Пожалуйста.
– Ты нам тута не командир, – хихикнул курносый, залезая обратно в кузов. – Случайный, попутный, так что… Кот, а Кот! Босяцкий жест тебе. Как оно, Кот?
– Нормально.
Ырысту стало гадко и муторно, словно падали наелся. Прекратить это, а как? Не поймут. Трофейный ствол в кармане – аргумент ни о чем. Главное, – сука! Блядь!! Там у нее и правда, узенько. Он знал, от этого было еще противней.
Гонимые немцы шаркают, не поднимая глаз. Стадо! Стадо! Высшая раса, народ воинов и господ – овцы!
А лейтенант блажит свое «пожалуйста».
Ырысту побеждал-не побеждал свою песчаную оторопь. Дребезжал мотор грузовика, в унисон покряхтывал солдат с открытой пастью. Кот расстегивал, оттягивал… придушенная девочка, кажется, лишилась чувств. Курносый, суетясь, растоптал рисунок в тетради.
Похожий на хорька поднес часы Юдина к уху, послушал, напялил себе на руку. На правую, на левой уже были. На каждой руке часы.
– Ша, бродяги! – крикнул хорек. – Слышь, Кот! Или кто ты там, завязывайте.
И была в его голосе такая сокрушительная воля, что Кот оторвался от девочки, обернулся, а курносый вдруг сел на место, сгорбился в позе «Я не при чем».
– Ты это… – начал было Кот, но под густым концентрированным взором хорька, похожим больше на взгляд мертвеца, берущего с собой каждого встреченного, замешкался.
– Выкинь ее. Нехай чапает, – приказал хорек, прибивая белым глазом насильника.
Кот, как на шарнирах качаясь, поднялся.
Похожий на хорька сгладил:
– Приедем в Варшаву, я тебе бабу отдам. Шикарную бабу, не мокрощелку. Все путем, братан!
Кот матерно выругался, схватил неподвижное тельце и бросил его в гущу беженцев. Толпа всколыхнулась, всхлипнула, вышла из берегов. Конвойный прикладом выровнял строй.
– В расчете, лейтенант, – сказал хорек.
– Младший лейтенант, – слабым голосом поправил Юдин.
Бардин поднялся, перешагивая через ноги попутчиков, через грязные сапоги подошел к Юдину.
Прошептал ему еле слышно:
– Попробуй, и правда, послушником.
Юдин не удивился. Ему не показались слова неуместными. После того, что случилось, во время, когда боевые товарищи оказались иными, чем представлялось. Солдаты, бывшие солдаты, ожесточенные до бесчувственности, озверевшие до бесчеловечности, которым издевательство, злоба и месть были верными спутниками по дороге с войны, их остановила молитва лейтенанта, взлетевшая взрывной волной на небеса. Или нет, не молитва? Жадность хорька прекратила насилие. Неужели победители такие? Юдин не знал, он призван недавно, окончил училище только в апреле. Если бы раньше, стал бы таким же. И как смотреть матери и сестре? Лучше повесится на первой осине. Или молится.