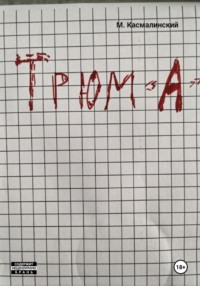полная версия
полная версияПуть с войны
Метров семьсот оставалось Ырысту пройти до дороги, когда на ней появился грузовик. Бардин закричал, подпрыгнул, замахал руками. Машина остановилась, Бардин побежал, топча молодые побеги. Из кабины грузовика выпрыгнул шофер. Приложив ладонь к глазам козырьком, он взглянул на бегущего Ырысту, после чего принялся лениво пинать колеса. Зачем они это делают? Ырысту не знал. Он и марку грузовика не знал: то ли «ЗИС», то ли «Студебеккер». Род-вен-ник твой сту-де-бе-кер, в такт на бегу думал Бардин, дя-дю-шка твой сту-де-бе-кер. Сатирическая повесть у нас запрещена, а книга Гитлера в шкафу стоит у первого секретаря горкома, сам видел…
– Подбросишь? – тяжело дыша, спросил Ырысту шофера.
– До ку-удова? – зевнул тот.
– На восход. Как можно дальше.
Из кабины выглянул осоловевший офицер, который демонстративно взглянул на наручные часы.
– В кузов лезь, – сказал водитель. – Там уже есть один. Ранетый.
Ырысту запрыгнул в кузов, где полулежал красноармеец с перевязанной серыми бинтами головой. Ырысту устроился между двух деревянных ящиков и сказал:
– Давно не виделись, – грузовик в это время рванул вперед. – Я еще думаю: с чего бы мне про оторванные уши чепуха всякая мерещится.
– На то ты и колдун, товарищ колдун, – улыбнулся Жорка Моисеев.
***
Он, Жорка, сразу увидел. Идет такой по полю снайпер Бардин. Ну, в смысле бывший снайпер. Тут Жорка и заколотил в кабину, чтобы водила подождал. А уже собирался выпрыгивать, сидеть, дожидаться. И сколько дожидаться? А вдруг ты уже был. Да-да, по твою душу я здесь. Догнал, повезло, что не разминулись. Котэ? Ну да. Ты говорил, что навестишь. Было дело, помню, кровавое полюшко-поле.
А произошла одна муть в связи с чем, он, Жорка, как честный человек и преданный друг был вынужден броситься вдогонку за товарищем Бардиным, чтобы предупредить и предостеречь. Дело в следующем. В восемь часов десять минут – достопочтенный Жорка Моисеев в это время чинно завтракает кашкой – прибыли в расположение некие неласковые дяденьки. Синий околыш их блядских фуражек симпатий к дяденькам не добавлял. Они настойчиво интересовались нашим пребыванием в одном доме на одной штрассе, это до того, как была перестрелка, где будущий адмирал потерял слуховой орган. Допрашивали на предмет каких-то писем, снимков, других трофеев и очень удивлялись отсутствию на месте меткого стрелка Бардина. Очень он им нужен, и скорее всего не как стрелок, и не как рассказчик. В общем, Шубкин очередной раз огреб дюлей, за что нижайше благодарил. Мечников, будто тоже попал под раздачу. Короче, ты теперь, товарищ Бардин, дезертир. А это верный трибунал. Так чекисты и сказали. Но мало того, ты не просто дезертир, а еще и изменник, потому как какую-то военную тайну, сам того не ведая, из части уволок. Больно нужны они нормальным людям их секреты! И тут Жорка посовещался с нашим другом Кирилловым, и было принято решение – Жоркой принято, кем еще? – товарища Бардина догнать и предупредить. Ырысту собирался навестить могилу друга Котэ, там его и нужно перехватить. А то засветится где-то и привет! Так что пробираться на Родину надо, избегая комендатур и патрулей. Наши органы теперь для Ырысту опаснее, чем немцы. Но в послевоенной, победной суете можно затеряться и выбраться. В Союзе полстраны в разрухе, там не до тебя, а доберешься до родных краев – считай, выкрутился. Словом, поздравляю вас, товарищ, со званием дезертира и предателя. Что?! А как я мог не поехать? Надо предупредить. Ты документы предъявишь – схватят. Дезертиров-то не ловят особо – так, сообщат в соседнюю часть, да и все. И без этого дел по горло. А если государственная измена, то тут извини-подвинься. Оповестят, ориентировки разошлют. А я… Ну во-первых, у меня направление в госпиталь, сделал маленький крюк… ну не маленький, но ничего страшного. Во-вторых, не знаю, что, во-вторых. Считай, что хотел еще раз повидаться. Могут, конечно, привлечь за пособничество врагу народа, но… Три мушкетера, понимаешь? Любимая книга, главный воспитательный роман, там как? Дружба важнее присяги. Дружба и любовь ценятся выше, чем Франция и кардинал. А мешок золотых монет и хорошая пьянка перевесят долг верноподданного. Так что никто никому ничего не должен. Слово «должен» убивает самоуважение. Придумали сами себе обузу – долг, устав, субординация. А если войне конец, человек домой захотел, а его сразу в дезертиры и предатели. Не правильно это!
– Придется ползти по-пластунски, – сказал Ырысту. – Полями, лесами.
Дезертир и изменник. Предатель, типа власовцев. Надо же! Вспомнилось из позднего детства, как приехали они с Эркин-аха в город что-то покупать. Хомуты, однако, ну и так по мелочи. Ехали в телеге мимо главного здания, на крыше которого волнами рдело красное знамя. Близился Первомай, с лицевой стороны на горкоме висели огромные портреты вождей государства.
– Вон тот, – показал дядя Эркин на один из портретов. – Приезжал к нам на фронт. Мы атаковать собирались, а он устроил митинг. Точно не помню, но смысл в том, что уходите, ребята, с линии фронта, у вас есть оружие, надо бить своих буржуев внутри то есть. Грабь награбленное, в общем. Превращай войну в войну гражданскую. Так и не атаковали, австрийцы тогда прилично продвинулись.
Ырысту посмотрел на портрет и подумал: дурак какой-то. Хомуты тогда не купили, НЭП свернулся, все пропало.
Сейчас, в сорок пятом году Ырысту Бардин не хотел бы превращать войну международную в войну гражданскую. Винтовку с собой с фронта не взял, только добытый Вальтер. Интересно, какую такую военную тайну с собой прихватил? Вернуться и покаяться? Можно даже не возвращаться, в первую же комендатуру явиться. Сказать, что… Блять! Сказать-то нечего! Опять включить дурака, моя твоя не понимай. Напирать на то, что чуть ли не с первого дня на войне. Множество наград, многая польза привнесена. А так и так шлепнут. По законам военного времени. Какая несправедливость – видеть судьбу других людей, не представляя свою.
Жорка болтал под шум мотора, улыбался так, что отрывались бинты от головы. Хорошим он будет артистом, подумал Ырысту. Или режиссером. Творческий человек, вон как по-своему понял роман о трех мушкетерах: дружба важнее присяги. И не только этот роман, еще он пересказывал одну популярную повесть следующим образом. Жила-была в одной деревне одна бабка, это где-то сороковой год. Бабке надо было почистить бочку, соскрести коросту. Да не с бабки, с бочки! Короче, сливает она двести ведер воды, думает – завтра буду чистить. Наутро встает, глядь, а бочка опять полная. Ах, нечистая сила, крестится бабка. По соседству жил дедок, лет под сто, но крепенький. Ему внуки все лето наваживали дрова, он говорит: высыпайте сюда, возле бани, чтобы баню топить, далеко не ходить. А на утро просыпается – дрова за сараем сложены, довольно далеко от бани. И давай дед материться, да полена перетаскивать. Это шустрила команда Тимура. Подростки-вредители. А потому что, не просят – не помогай. Только навредишь. Так они чего учудили? Они нарисованными звездами пометили дома, где проживали семьи красноармейцев. Представляешь? А потом в поселок просочились финские диверсанты и вырезали всех к чертовой матери. Это в повесть не вошло, но было именно так. А потом этот трюк в Белоруссии применили. Там кто-то помечал дома, где жили родственники партизан, а потом приходили полицаи и…
Бардин просматривал эту повесть по диагонали, а секретарь горкома показал портрет в газете. «Детский писатель, – пояснил чиновник. – Про судьбу барабанщика написал, про Тимура».
Ырысту тогда, глядя на парня в папахе, почуял, что этот писатель глубоко несчастный человек, к тому же очень больной. И зеркальный лабиринт, явившийся на миг, давал понять, что потомкам портрета суждено сыграть свою роль в истории страны.
«Прочитал твои записи, товарищ Бардин, – сказал секретарь райкома. – Народный эпос. Долго составлял? Превосходно. Литературная обработка весьма достойно выполнена. Я думаю, есть все шансы на публикацию. И в разрезе партийной установки на формирование алтайской творческой интеллигенции ваш труд, несомненно, полезен и значим…».
Как это было давно!
А теперь Бардин трясется в кузове, напротив Жорка выгибает губы, таращит глаза, верит в руках бумажный кулечек.
– Сахар, – Жорка протянул Ырысту сверток. – Возьми.
Хрусткий пакетик в руке Ырысту, сахар – великая ценность. Если сейчас остановит патруль, проверка документов, может сдаться? Разом и все. Как со скалы прыгаешь в воду. Чуть задеваешь дно, и тут же вода кидает тебя на поверхность, где подхватит поток, и течение понесет беззащитное тело к порогу. И гребешь, гребешь. К берегу. А где тот берег и что на берегу?
Если сейчас остановит патруль, три человека, дать по башке, связать и смываться. Еще в кабине двое. Жорка, допустим, поможет, а потом и ему – трибунал. Лучше сдаться.
А еще лучше – не сдаваться. Пробираться на родину, а там… Алтай не выдаст. Хлопцы атамана Кайгородова до сих пор сидят в долине Чулышмана, и кто бы их поймал, этих замечательных белогвардейцев.
Грузовик повернул. Жорка озабочено озирался, потом, перегнувшись через ящик, сказал: «слушай, товарищ шаман, куда-то мы не туда. Юго-запад нам не в масть».
– Я слезу, а ты езжай. Тебе в госпиталь, – сказал Ырысту.
– Нам бы еще проехать к востоку, там места поглуше. А вот там людновато.
Жорка подумал немного, повернулся к кабине, яростно застучал по крыше. Да как заорет: «Воздух!!, Воздух! Ложи-ысь!!!».
Грузовик резко остановился. Водитель и офицер вылетели с разных сторон из машины, отбежали на поле, плашмя залегли. Рефлекс, Жорка так и предполагал.
– Давай за руль! – крикнул Жорка.
– Я же водить не умею! – Ырысту постучал себя по виску.
– А еще эктрасекс, – обиженно сказал Жорка и сам полез в кабину. – Так держись, товарищ Бардин. Ща мы с ветерком!
***
Несколько дней Ростислав объезжал ближайшие комендатуры, ходил по штабам, опрашивал. Теперь вернулся на базу. На розыск Бардина он отводил два-три дня, а выходило больше. Это раздражало. И азиат не такой тупой, как представлялось. А если не такой тупой, то возможно, что озвученное им намерение идти на родину – не более чем легенда? Пришлось повторно опросить сержанта Кириллова, носившего королевское имя Стефан. Тот поначалу отбрехивался. Но к каждому человеку, есть отмычка. «Я ведь тоже сибиряк, – говорил Загорский. – Байкал наш, Байкал. Знаете, самое полноводное озеро в мире. А вы в Чите бывали? Чаю наливайте себе. Это не допрос, а беседа. Я и сам особистов не очень люблю. Лучше бы вашего друга Ырысту нашли мы. Сахар берите. Кстати, сало. Хлебушек. Бабушка моя никогда не называла хлеб хлебом. Только – хлебушек. Раз пошли мы с бабушкой паломниками в один староверческий скит…».
Сержант поплыл. Нет, Кириллов уверен, что Бардин направился к дому. На запад он не сунется. Предположим, что так, думал Загорский.
Или Бардин просто заморочил всем голову. Дядя, с которым был близок искомый, не любитель Советской власти. Может чего-то внушил. Если бы Бардин оказался перебежчиком, то можно от дела и отказаться. Шпионы – не наша стезя. Но профессиональная гордость, гордость ищейки. Одиннадцать лет без осечек. Всех находил.
Загорский вошел в квартиру, еще не обедал сегодня, хотелось перекусить. Серега Гаврилов сидел за столом, сооружая себе бутерброд с повидлом. Бутерброд Загорский немедля изъял.
– Рассказывайте, – сказал капитан.
– По нулям, – доложил Гаврилов.
– Этот?
– Этот. Внедренный к нам объект «Вихрь» отрабатывал вокзалы, потом изучал ответы на запросы. Ссорился с Вилькой. Как ссорился? Пикировались. Потом помирились, ночь провел у нее. Звонил по телефону, меня не видел. В трубку какому-то полковнику стучал как сорок тысяч дятлов: Иван Матвеич, говорит, от сыщиков толку никакого, меня не уважают, указания игнорируют. Загорский – мутный, в разговорах бодяжит Ленина и Библию, издевается. Хохмит. Сложно, говорит, Иван Матвеевич работать с этим мизантропом. Это он про вас.
– Откуда варенье? – спросил Загорский.
– Повидло, – поправил Гаврилов. – Это Ветров Вильку соблазнял. Осталось. Ростислав Васильевич, я думаю надо перебираться в другое место. Сдвигать район поиска. Столько фигурант даже пешком…
Его прервал звонок телефона. Ростислав поднял трубку.
– Загорский.
– О-о, Васильич! Хорошо, что на базе, – оживленно дребезжал голос Сметаны. – Нашли. Представляете, на даче прятался! Вилла по-ихнему. Приезжайте.
– Диктуй адрес, – сказал Загорский. – Так. Какой швед? Понял, Шведт. В объезд. направо. Загородный участок. Какой дом? Принял. Два часа, плюс-минус. Конец связи.
Капитан с триумфальным размахом, положил телефонную рубку, победно потянулся. Гол! Еще один гол влетает в ворота противника. Группа Загорского уверенно ведет в счете. Запомним буквы «Б.Ы.Т.», потом их вырежем на палке.
В комнату вошел Ветров, на шее его толстым эллипсом синела отметина, в просторечии – засос. Загорский машинально потянулся себе под воротник.
– Поезда мы отработали. Все вроде чисто. Поручения я дал, шансов проскочить, практически нет, – с неохотой рассказал Ветров.
– Категорически ценю вашу мышиную возню, товарищ из госбезопасности, – ответил Загорский. – А мы тут фигуранта обнаружили, пока вы… – Загорский хотел сказать: «пока вы совокупляли члена оперативной группы», но передумал – у самого рыльце в пушку. В пушку из той же подушки.
– Едемте, заберете своего Бардина.
– Куда, – спросил Ветров.
Загорский показал на стену, где крепилась карта. Карта была подробной, и определить место поездки Ветров не смог. Это мог быть и Потсдам, и Гамбург, и любой из Франкфуртов.
По адресу, указанному Сметаной, располагался особняк крашеный бежевым с закругленными окнами, со ступенчатой крышей, с боковым барельефом в виде медузы Горгоны. Через калитку Загорский и Ветров зашли на участок с мятым газоном, по сорной тропинке прошли до дверей.
– Ростислав Васильевич, сюда! Владим Владимрыч!
На открытой веранде, облокотившись на планку барьера, стоял Сметана, который держал, отставив мизинец, чайную чашку объемом едва ли много больше наперстка.
Тут же на веранде в плетеном кресле между двумя застывшими красноармейцами сидел азиатского типа мужчина с рыхлым лицом халвичного цвета. Руки его были связаны впереди, зубы возмущенно таращились вперед, отчего задержанный напоминал бурого кролика на исходе репродуктивного возраста.
– Думал, спрятался. Ан нет, – радостно сказал Сметана. – Нашли. Методом личного сыска. Он мне давай фуфайку в ухо вкручивать, что не при чем. По-немецки! Представляете? Русский язык резко забыл, козел пестрожопый.
– Н-да, – протянул Загорский. – И это, по-твоему, Ырысту Бардин?
– Он это, он, – подтвердил Сметана, лаская губами фарфор чайной чашки.
– В кимоно?
– В кимо.. что?
Загорский произнес несколько отрывистых звуков, азиат, обрадовавшись, ответил на том же языке. Капитан опять что-то сказал с вопросительной интонацией. Пленник попытался встать, но один из бойцов придержал его за плечо. Тогда азиат затрараторил на своем наречии, после каждой фразы, сидя кланяясь Загорскому, доставая лбом до колен.
– Это господин Оно, личный повар убиенного господина барона, – перевел Ростислав. – Барониха с барчуком отбыла в Швейцарию. Сметана! Вы же сыщик, а не можете отличить нашего алтайца от не нашего японца?
Сметана принял виноватый вид, впрочем, не очень искренний.
– Ростислав Васильевич! Фотокарточки такого качества…
– А без фотокарточек?
– Да они для меня на одно лицо.
– А то, что нашему чуть за тридцать, а этому далеко за сорок! Не видно?
Загорский развернулся и ушел с веранды, довольный Ветров последовал за ним.
– Промашка вышла, – сказал майор. – Бывает. Всех азиатов надо же проверить. Это уже не мышиная возня – коровья.
– Попрошу без злорадства. – Ростислав остановился. – А знаете, товарищ майор, вы, пожалуй, оставайтесь. Договаривайтесь насчет этой дачи на предмет предоставления помещения в пользование нашей группы. Район поиска будем сдвигать на восток. А здесь самое то, – Загорский обвел взглядом участок. – Город рядом, телефон есть. Уютно и тихо. Вон тот флигелек выделим вам. Для морального разложения.
– Флигелек – неплохо, – парировал Ветров. – А то мои женщины по ночам с ума сходят очень шумно. Руководство опергруппы не высыпается. От зависти в основном.
– Руководство группы с ума не сходит. Где вы учились, мы преподавали. А вот Борис может оскорбиться и вызвать на дуэль. А поскольку стреляет он плохо, то, не дожидаясь поединка, соперника прикончит ломом по красивой голове.
– Учту. Дачку, думаю, оформим. А со сторожем что?
– С японцем? Да пусть посидит у вас в казематах. С Японией у нас мир-дружба. Это Штаты с ними воюют.
– Это пока. Но наша страна может оказаться и на другой стороне. Ведь так уже было, правда?
– Ни кропаля не помню! – развел руками Загорский. – По-моему всегда было, как было, значит было, как надо.
Подбежал смущенный Сметана
– Поспешили, бывает, – оправдывался он. – Так ведь прятался! Ростислав Васильич! Японец – то шифровался. Вот я подумал.
– Садитесь за руль, Николай Прокопьевич. Поедем.
Загорский направился к машине, Сметана поспешил за ним.
– Ростислав Василич!.. Ростислав Василич, а вы как это японский знаете?
***
«Виллис», пропетляв по лесопарку, вышел на шоссе, Сметана здесь прибавил скорость.
– Где вы японский учили, Васильич?
– Мишку Япончика брал на одесском привозе. Я идиш тоже знаю немного.
– Япончик, – фыркнул Сметана. – Вы еще Леньку Пантелеева вспомните. Вы и не работали в те времена.
В те времена.
Загорский в те времена только пришел в уголовный розыск. Было это в Приморье времен «белого» правительства братьев Меркуловых. Друг Загорского-старшего литератор Василий Кириллович Иванов занимал тогда пост министра внутренних дел, пока не свихнулся на почве масонства, что свойственно, в общем-то, русским писателям. Отец, пристроив сына в розыск, ушел в отставку и, устав от политической свистопляски, настраивался на эмиграцию. Долго собирался, протянул, и к удаче Ростислава не уехал – скончался. То есть, жаль отца, но, учитывая последующие события, лучше так, чем Харбин.
– И потом Япончик не такой и совсем бандит был, – вздохнул Николай Прокопьевич. – Он даже за наших воевал, в Красной Армии под Якиром служил. Тот самый Якир, которого расстреляли, ну вы знаете. Крышу поднять бы, – сказал Сметана задумавшемуся Загорскому. – Я говорю, брезент расправить. Жара. Спекемся.
От дороги пологая насыпь спускалась в кювет, где топорщился чахлый кустарник. За кюветом шел не крутой подъем, ведущий к стройному ряду скрипучих деревьев.
Впереди Загорский увидел силуэт. По обочине шагал мальчуган с лукошком. На вид ему было не больше тринадцати, короткие штанишки подчеркивали юный возраст мальчика.
Загорский еще подумал, чего он с корзиной? Для грибов рано, да и нет их тут. Ягоды? Скороспелки какие-нибудь.
Вот и ягоды! Когда машина поравнялась с мальчишкой, он достал из лукошка ручную гранату и бросил ее в салон между водителем и пассажиром.
И… все! Так, видимо, сердце уходит в пятки. Уделал наглухо седой подросток! Вся жизнь пронеслась перед глазами Загорского. И это – всего ничего. Жизнь комара или ничтожной мошки. Миг! Ни о чем. И никого больше не будет. Никого не будет вокруг, потому, что нет центра, создающего это «вокруг». Как же мало! Как недолго! И ведь не было! Ничего значительного не было!
А Сметана ударил по тормозам, цепко схватил гранату. Он вывалился из машины, упал на землю, накрывая взрывчатку впалым своим животом.
И – не взорвалось.
Загорский при торможении ударился грудью. Потер место ушиба, протянул руку дальше – в наплечную кобуру.
– Про чеку забыл засранец, – выдохнул Сметана. Он был бледно – синим от испуга.
А Ростислав с пистолетом вышел из «Виллиса», встал, широко расставив ноги. Мальчуган убегал по насыпи, он спотыкался, задевая за корни и камни, огромными не по размеру ему ботинками.
Загорский прицелился, выстрелил. Мальчишка упал. Ростислав навел пистолет на кусты – никого, у деревьев вдали – тоже. Он наклонился и зачем-то подобрал гильзу. Зачем он это делает, Ростислав объяснить бы не смог.
– Кажись живой, – сказал Сметана. – Ноет.
Загорский выстрелил в щуплое тельце, которое дернулось и замолкло.
– Поехали, времени мало, – приказал капитан.
Загорский сел на пассажирское сидение, Сметана забрался за руль. Солнце закрылось перистым облаком. Стало немного темнее. Ростислав сбросил с Николая Прокопьевича пилотку, взял его за шею, притянул к себе и поцеловал в темечко.
***
Бардин лежал на прошлогодней соломе и сквозь щели в крыше отслеживал движение беззубых звезд.
Проехав на угнанном грузовике то расстояние, какое было возможно преодолеть за пару часов по полевым дорогам, Ырысту и Жорка распрощались.
– Я в госпиталь теперь, – сказал Жорка. – Бог даст, свидимся, товарищ колдун.
Они обнялись. Уперлись друг другу лоб в лоб.
– Прощай, товарищ Бардин, – тут жоркин голос сбился, словно прыгнула игла на патефоне. Он сделал шаг назад.
– Прощай, Георгий. Ни пуха. Желаю, чтоб выросло ухо. Стихи, ёп! – Ырысту улыбнулся. А на душе кошки скребли. Почему в мирной жизни не было друзей? Почему дружба пришла лишь вместе с войной. А теперь расставание с другом. Навсегда. Печально.
– Ухо не вырастет. Я не ящер.
– Пришьешь, – убежденно сказал Ырысту. – Ясно вижу: оба уха у тебя. Теперь, когда поняли все про войну, теперь мирная жизнь. Такая будет жизнь! Из Берлина в Барнаул, вжик! И там. Да чего, Барнаул? На Луну полетим! На Марс. А богачество будет, ух! Там такие удобрения будут, запредельная урожайность, так что воевать за земли будет никому и не надо. И медицина: захочешь, ухо пришьешь, захочешь полностью лицо изменишь, хоть как у Алейникова один в один. Так что не переживай, артист!
– Ну, если так, – Жорка вынул из кармана пилотку, надел, приложил руку к виску. – Оклемаюсь, устроюсь, напишу.
Он не напишет.
– Прощай, брат Жорка.
Пацан подлечится, а через годы, когда прогресс дойдет, он сделает операцию, и все девки его. Так предсказал Ырысту. Или не предсказал, а создал? Великие провидцы видят будущее или они его пишут? Бросил камень в море, а пока он летит, напророчил круги на воде.
Они разошлись. Каждый пошел своей дорогой, и вьется пыль под сапогами, лесам-ми, полям -ми. А уже погасло пламя и пуль не слыхать.
Конечно, полями, следует избегать автострад, населенных пунктов и других многолюдных мест. Солюдий. Есть созвездия, есть созвучия, а много людей – солюдие. Нет такого слова? Просто русский язык не до конца использует свой потенциал. Лень им русскоязычным. Поэтому предкам Ырысту приходилось учить тоскливых древних русичей тюркским терминам – базар, казан, ямщик, да много всего! Деньги у казака в штанах, сундук в шалаше. Ни одного русского слова. А у немцев вообще язык – чопопалошний язык. Орут хайль Гитлер – как собаки лают. Ну, теперь-то не орут. И снова заорут не скоро. И не немцы.
На часах было около шести вечера, когда Ырысту вышел к небольшому хутору. Устроившись в рощице, стал наблюдать, благо, что оптику с винтовки свинтил, с собой прихватил. Собак не слышно, не видно. Добротный дом, окруженный надворными постройками: амбар, загон для скота, сарай под сельхозинструмент, а вон там что-то похожее на сеновал.
Прусская ферма, грустная фрау. Дебелая баба выходила из дома, брала то ведро, то топор, и удалялась обратно. Больше никого Бардин не видел, но это ничего не значило.
Ырысту ковырял сухпаек, удобно устроившись на мягкой земле. В это время хозяйка фермы возле железного бака, стоящего у изгороди, разложила щепу, плеснула из банки коричневой жидкости и подожгла. Бросила сверху дрова, судя по полировке – ножки стола. Следом в костер отправилась и столешница, порубленная крупными кусками. Пламя заполыхало.
Видимо, фрау будет готовить ужин. Тогда по объему еды можно понять, есть ли еще кто-то в доме. Хозяйка сходила в дом, вернулась с охапкой тряпья. Ырысту присмотрелся – ух ты! Тряпки – черная гестаповская форма. Фрау бросила мундир у костра, наступила на китель, потянула за рукав. Оторвать не получилось – пошито на славу. Тогда она бросила форму в огонь, постояла пару минут и снова ушла в дом.
Сгорала форма гестапо. Метафорично. У немцев, наверняка, другая одежда есть, а нам свою форму носить и носить. Ырысту продолжал наблюдать. Он устал и намеревался забраться хотя бы вон в хлев, нормально поспать до утра. Но фашистские шмотки, наличие их на ферме вызывают сомнение в безопасности этого плана.
Дым от костра едок, неприятен. Это не лиственница, не береза, а мебель и ткань.
А хозяйство ладное даже на вид, почти как в Сибири до революции. Кулаки-единоличники, мироеды, враги, а что в них ужасного было? Немцы поди-ка нас не глупее, у них такие усадьбы. Частные, можно сказать. И смотрится очень неплохо, правда скотины не видно, но это понятно – война. А до войны, скорее всего, было здесь все, включая и живность. А слева – поля. Пашни теперь заброшены, ясно – никто не сеял. А в остальном хозяйство хорошее. Бардину нравилось. Хоть и война, а все же ухожено. Земля без хозяина – круглая сирота.