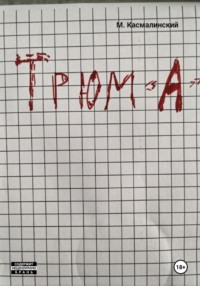полная версия
полная версияПуть с войны
– А не надо! – отрезал Васька.
– Что «не надо»?
– Шибко организовывать. Людей контролировать, – парень скрутил кепку, сжал кулаки. – Все понимают, не дураки.
Иванчиков вплеснул руками.
– Ах, не надо? Скажите, пожалуйста! Давайте без руководства, без государства. Сами? Сами решать что строить, что сеять, когда, это самое.. пожинать. Пожалуйста. Без руководства. Без партии. Ты хочешь без партии!? – крикнул Иванчиков, а парень втянул голову в плечи и закрутил ею отрицательно, он не хочет без партии, такое предположение абсурдно. – То-то же. Да что вы?… тьфу ты! Вы там, в деревне совсем…. Я понимаю – Победа. Конец долгой войне. И есть такое ощущение, что вот, мол, всё изменится и всё по-новому. Так? Ну да, ну да. Тебе объяснить? Я бы с тобой вообще разговаривать не стал, если бы меня слёзно не попросили.
Иванчиков снова налил в стакан из графина. Василий сверкнул умными злыми глазами и еще сильнее сжал кулаки.
– Ты взрослый, считай, уже этот самый работник, – продолжил Иванчиков. – Уже надо понимать. И «враги народа» это «враги народа». И члены их семей. Это здесь, мол, Сибирь. А в России бы уже и тебя и мать давно бы выслали куда подальше из-за такого отца. Или не выслали, а того строже. Здесь уже высылать дальше некуда…. Да и руки не дошли, у того, кто…. А ты собираешься взять фамилию отца. Фамилию отца осужденного Советской властью. И что получится?
Парень резко бросил руку от бедра вниз и решительно сказал:
– Правда!
– Правда, она где-то… – Иванчиков неопределенно покрутил ладонью на уровне виска. – А тут не правда, тут судьба твоя. И матери твоей, может быть. Понимаешь? Жизнь зависит, судьба. Жалко мне тебя. Если бы не попросили, и разговаривать бы не стал. Ты в каком колхозе? В «Заветах Ленина» или в «Пламя коммунизма»?
– Мгм.
– Давай так. Ты еще раз подумай, все взвесь. Я ж только добра тебе желаю. Вдруг ты учиться надумаешь или еще чего это самое. Фамилия осужденного отца может тебе, это самое, по жизни помешать.
Иванчиков говорил все тише и тише, поэтому вздрогнул от стука снаружи. Два удара в дверь, в кабинет вошел Загорский. Ростислав представился, показал удостоверение.
Иванчиков грозно глянул на Ваську, буркнул: «Свободен», и парень пошел, задержался у выхода из кабинета, хотел хлопнуть дверью, чтоб зазвенело, но передумал.
А Иванчиков плавно преобразился из вальяжного начальника, уверенного в собственной правоте в мелкого заискивающего службиста с некоторым чувством вины. Он начал доставать из тумбы стола редкую для послевоенного времени закуску, бутылку водки, посуду.
– Как там сейчас? На западном направлении?
– В целом занимательно, – сказал Загорский
– А вы на каком фронте? – Иванчиков пытался наладить доверительный контакт.
– В основном, на невидимом.
– Ну да, ну да. Понимаю. А я сколько просился! Сколько рапортов написал. Нет и всё! Здоровье, знаете ли, плохонькое, – Иванчиков пощупал свой тугой живот. – Доктора…. Да что бы они понимали! Но начальство прислушивается и поскольку, мол, материал некачественный, то сиди-ка, Петр Петрович, в глубоком тылу. А уж я рапортовал-рапортовал. Хотя и являюсь сугубо гражданским лицом, и в органы попал лишь в связи с известными событиями, но когда Родина в опасности…. Пришлось и здесь, мол, всё для фронта, всё для Победы. Для победы в кровопролитных сражениях!! Так?
– Не знаю, – процедил Загорский. – Я, собственно говоря, розыскник и в кровопролитных сражениях не участвовал. Моя работа даже не слишком изменилась как до войны, в ее начале, так и в настоящее время.
Загорский произнес это обыденным тоном, не считая нужным оправдываться в своем отсутствии на линии фронта, что приятно удивило Иванчикова.
– И в самом деле! Не всем же в пекло лезть. Этих самых хватает. А для сложных задач должно быть и исполнение на другом уровне.
– И? Как у вас с исполнением задач.
– С исполнением задач у нас так, – Иванчиков отложил нож, которым нарезал хлеб. – Согласно полученной директиве имеющимися в наличии силами проведены мероприятия по поиску Бардина Ы. Т. четырнадцатого года рождения. Значит, э-э, мероприятия положительного результата не дали. Согласно указаний были взяты под контроль вокзалы, однако указанное лицо установить и задержать не представилось возможным. С большой долей вероятности можно предположить, – тут Иванчиков перешел с официального тона на обыденный. – Что разминулись. Наверное, поручение к нам пришло уже позже. Не было этого Бардина. Я сам лично вчера-сегодня весь день по вокзалу с группой, было там несколько алтайцев, но совсем с другими приметами…. Так что искать его теперь только по месту жительства. А эти горцы, какое у них место жительства? Ушли за перевалы, в тайгу, и всё! И ищи-свищи. Если бы пораньше сообщили, то.... А так не представилось возможным. Да найдется ваш Бардин, никуда не денется, куда ему деваться-то?
Иванчиков возбужденно докладывал о принятых им, это самое, мерах, Загорский становился все печальнее – как и можно было предположить, особого энтузиазма здесь не было, оперативные мероприятия проведены формально.
Иванчиков разлил водку по стаканам, провозгласил:
– Н-ну, за Победу! И вечная память павшим героям!
Загорский забирал стакан из рук Иванчикова и сказал:
– Вам пить не стоит. Здоровье ваше плохонькое. Сердце, мол. Распорядитесь насчет автомобиля.
Иванчиков сконфузился.
– Так ведь дело к вечеру. А там и ночь.
– Удивительно точное замечание. Автомобиль с водителем, – сказал Загорский, сворачивая газету с разложенной закуской. – Это будет паек шофера.
Иванчиков снял трубку телефона, послушал, потряс ее, потом, не дождавшись, выбежал из кабинета. А Ростислав грустно произнес: «Вот, мол, оно как, это самое» и выпил.
***
Грузовик пожирал широкую дорогу, так втягивают в рот длинную лапшину. В кабине машины – хмурый Василий, веселый шофер поет во весь голос:
– Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов. Среди них был какой-то там шОфер… звали Васька его…. вот и он.
Васька ответил полуулыбкой. Худосочный шофер крутил баранку; щурясь, глядел вперед – пыльно солнечная трасса упиралась во вспухшие тучи.
– Дождь будет. В-васька! Так ты так и не сказал, че в район-то ездил.
– Да там порешать кое-чего, – нехотя сказал Василий. – Хочу фамилию отца взять.
– А в чем тут вилы?
– У меня сейчас фамилия отчима. А вилы в том, что отца забрали в тридцать третьем, осудили. В селе как-то меня не очень поняли. Боятся, что ли. А им, что не страшно, то безразлично Я и пошел выше, в город.
– Так и че сказали в городе?
– Значит так. Приехал я нежданным гостем в высокую инстанцию. Там меня почему-то не шибко ждали. Хозяин кабинета живет в кабинете, как дома, ходит чуть ли не в подштанниках. Сидит и что-то из себя воображает. Рожа красная, как из бани. Глаза пустые, как с похмелья…
Шофер только смеялся: ну, Васька, ну рассказчик! Машина приближалась к полосе дождя.
– А он потом и ляпнул такое, – с выражением говорил Василий. – Мол, вы все в деревне негодяи, и вами нужно только командовать. Вам, говорит, нужно указывать че когда сеять, че когда убирать. А я думаю: и как же мы раньше без тебя обходились? А он давай там про страну загибать, про всё на свете. А по моему делу – ни бе, ни ме, ни кукареку. Потом притащился какой-то хлыщ по-военному одетый. Меня и прогнали.
На лобовое стекло шлепнулись крупные кляксы воды.
Шофер с восклицанием «Ё-о!», нажал на тормоз. Грузовик остановился, и водитель, не выходя из кабины, открыв дверь, высунулся под дождь, и, изогнувшись, заглянул в кузов. Там Ырысту растянул над собой плащ-палатку, которой укрывал от дождя не столько себя, сколько стоящий перед ним футляр аккордеона.
– Ты че, солдат, дурня валяешь. Лезь в кабину не мокни! Хоть бы по крыше постучал!
Ырысту укрыл аккордеон, а сам с вещмешком в руке перелез в кабину. Автомобиль двинулся дальше.
– Ты заболтал меня Васька! Я даже забыл, что у нас еще один пассажир едет.
– Да ничего страшного, – сказал Ырысту
– Ничего… Главное, сидит, затихарился! Надо было по крыше стучать. Я че-то забыл. Стучать надо, нечего тута скромничать. Ничего…. ливень такой.
– Это хороший дождь, когда с солнцем. Грибной.
От этих слов Ырысту, от того, что дождь грибной и водителю, и Ваське стало как-то неожиданно хорошо.
– А в Германии грибы растут, солдат?
– Растут, наверное. Что они не люди?
– А как там насчет б-баб? Мне дядь Паша плел за румынок. Но ему верить….
Ырысту залез в мешок, поискал и достал фотографию немки-блондинки, которую протянул шоферу
– Ишь ты! Ни че такая… полохонул ее? Нет? Слушай, подари. Я ее куда-нибудь, – водитель примерил куда бы можно прикрепить карточку.
– Не надо, – сказал Васька, забирал фотографию у шофера, отдал ее обратно Ырысту. – Убери.
– Ты чего это, В-василий? – удивился водитель.
– Не надо. Женщина. Может быть, мать.
– Чья мать-то? Фрицевских солдат м-мать?
– Матери рождают не солдат. Рождают детей.
– Да и пожалуйста, – сказал шофер после паузы. – Дождь вроде затихат. Васьк, ты от трассы-то дойдешь? Скоро приедем.
– Дойду, – сказал Васили и обратился к Ырысту. – А ты куда добираешься?
За Бардина ответил водитель:
– В горы он, ясное дело! Но я еду только до Суртйки. А там уж сам. Да каво там? Вот она будет река Катунь и гора Бабырган.
Ырысту все больше попадал в свое имя. Счастливый.
– Это ничего, – сказал он. – Доберусь. Теперь уж доберусь.
Теперь, конечно. Это сколько прошагал, проехал?! Да уж, прогулка на четыре года, до Берлина и обратно.
Справа от дороги появились избы. Шофер объявил: «Сростки». Грузовик остановился у обочины. Василий пожал руки водителю и Ырысту, выпрыгнул под дождь. А шофер вспомнил, окрикнул его:
– Васьк! Васька! Фамилия-то твоя теперь будет как? Вдруг че…
Но парень уже скрылся за занавес дождя.
А Ырысту услышал. Или почуял. Или увидел на стенке, падающей с неба воды. И это Сростки с горой Пикет. Это Шукшин. Такая фамилия парня. Будет памятник здесь, будут люди – его почитатели, которые съезжаются со всех концов страны, чтобы послушать, а может самим прочитать наизусть слова, сказанные и записанные этим сердитым пареньком, больше всего на свете уважающим правду.
Из дождя вскоре выехали. В кабине немного пахло бензином, но Ырысту казалось, что он вдыхает чистый алтайский воздух.
Летит под колеса дорога. Дорогая, родная трасса. Жизнь положить за Чуйский тракт. Отдам без всяких сомнений. За Чуйский, за Волоколамское, за все дороги и тропы нашей огромной страны, за белорусские дебри, за украинские степи, за всех и каждого, за людей. Надо будет, снова зовите. Отстоим, отобьемся. Усремся, но выдюжим. И – нужно сделать возможное и невозможное, но наши дети чтобы, чтобы дальнейшие поколения не видели больше войны.
Солнце скатывается вниз. Поворот на Красногорское. Невидимые иголки колют шершавые пальцы, шуршат по плечам и по шее. Ырысту в отрешенной дреме. По войне он прошел, как на промысле, как охоту с друзьями-товарищами. Товарищи не все остались живы. Сам трижды был ранен, терял сознание, выбирался из боя на плече неведомого санитара. Орал в лазарете, стонал в госпитале, страдая от стыда больше чем от боли. Выздоравливая, радостно предвкушал свое возвращение в круговерть событий. И возвращался, опять стрелял, четко и метко выполняя свою непростую работу. Так прошел по войне. Путь обратный преодолел один, многое передумал, поразмыслил о разных вещах. Это было полезно. Каждому будет полезно пройти свой путь с войны. Даже не воевавшим.
Грузовик повернул налево, остановился у крайних домов деревушки.
– Суртайка, – сказал шофер. – Я дома. А то пошли, земляк. У нас с маманей заночуешь, а завтра попутку поймаешь, и дальше.
– Нет. Я пойду, – отказался Ырысту.
– Так-то темняет уж.
– Это хорошая ночь. Своя.
– С-смотри, – шофер подумал и добавил. – Я б, наверное, тоже пошел.
Ырысту вылез, забрал из кузова аккордеон и направился по дороге. Водитель смотрел ему вслед, а потом открыл дверь, встав на подножку, крикнул:
– Эй, солдат!
Ырысту обернулся. Шофер снял кепку.
– Спасибо тебе, солдат! Спасибо!
***
Догнать, доказать, поймать, доказать. Такую мантру твердил Загорский все последние дни. В Бийске ему предоставили «эмку» с молчаливым водителем, на которой он помчался в сторону алтайских гор. Прибыв в Майму, Ростислав навел справки у здешних коллег, какие машины выезжали в интересующем его направлении. Оказалось – их было немало. Предполагаемый маршрут он начертил на карте еще в пути. Ночь провел в отделении местной милиции, заставив себя хоть немного поспать на выставленных в ряд нескольких стульях. Сон давался с трудом, до тремора колотило азартное возбуждение. Еще немного, и дезертир будет взят. Тогда можно будет спокойно смотреть людям в лицо, Загорский в игре, он не «сбитый летчик». Надо думать, что ни прямому начальству, ни параллельным служакам, никакого дела не было до профессионального статуса Загорского, тем более он давно уже всем все доказал, и его мнительность, его терзания не имели под собой реальной почвы. Сам себя накрутил. Но – дело чести взять дезертира. А! Он уже и не дезертир, да. Вывели смершевцы. Классическим образом, Ростислав и сам так делал неоднократно, выводя из уголовного дела своих осведомителей. Отписываешь «шкурку», то есть агентурную записку, регистрируешь, потом к следаку… в общем, ничего нового. И контрразведка провела Бардина, как выполняющего секретное задание. В этой связи никаких процессуальных оснований к погоне нет, если следовать букве закона, то бегунок – демобилизованный красноармеец, кавалер многих наград, который легально возвращается домой, и никаких претензий к нему быть не должно. Единственное, у него важная фотокарточка, о чем знают всего семь человек, включая полковника Колупаева. «Ростислав Васильевич, это важно, кровь из носу», – сказал по телефону Колупаев, а Загорский мысленно его обматерил. К чему ему судьба музейных раритетов, когда на кону репутация. Взять, непременно поймать. Снимок изъять, пусть подавятся. Но даже в случае утраты фотографии Бардин, возможно, вспомнит, что было написано на обороте. У него способности. Может, благодаря этим способностям, а скорее вследствие общественной деятельности, Ырысту здесь знали, он ко всему прочему оказался автором брошюрки – сборника алтайского фольклора, включающего сказки о богатыре Сыртыкпае, легенды о тюрках Ашина, и вишенкой на торте – подробная публицистическая статья о принятии челканцами и тубаларами российского подданства.
Итак, его знают. Пожилой колхозный председатель, с которым побеседовал Загорский в маленькой деревне у Чуйского тракта, сказал, что Бардин (да знакомы мы с ним, ясен пень) проходил здесь только вчера, переночевал у бабки Егоровны, а утром поймал попутную машину, которая порожняком отправилась за сеном, заготовленным на горных лугах. То есть, домой он направился не по классической трассе, а предпочел срезать путь по медвежьим углам.
Ростислав провел ночь на той же лежанке, где сутки назад спал Ырысту. Загорскому казалось, что он подобно псу чувствует в одеяльце запах того, кого ему надо найти. Утром сыщик готов был броситься дальше, след взят, теперь не уйдет, день пути остается, но возникла непредвиденная сложность. В требуемом направлении легковая машина не пройдет, потому что надо ехать в буквальном смысле по реке. Эта речка, полноводная весной, в конце лета сильно мелела и служила единственной дорогой до глухого села, которое Бардин никак не мог миновать. Нужен грузовик, а машин в деревне нет (шаром покати, ясен пень, механизмов, сказал председатель), Ырысту уехал на единственной. Пришлось возвращаться назад в сторону районного центра. Но на обратном пути встретился ГАЗик с колотыми дровами. «Останавливаем!», – приказал Загорский своему водителю. За рулем грузовика сидел молоденький парень, испугавшийся грозного удостоверения, хлопнувшего у лица. Дрова были выброшены на обочину, ГАЗик двинулся в сторону деревни с непроизносимым названием, Загорский ерзал на переднем сидении и повторял: догнать, доказать.
Удивительно, но в это селение, куда доехал Ростислав по речному руслу, при отсутствии дороги было проведено радио. Черный рупор висел на столбе, надежно вкопанном среди необычных круглых домов, которые – Загорский уже знал – называются аил, или же чадыр. Громкоговоритель выдавал унылый официоз – правительство и партия не забывают своих граждан, куда бы они ни скрывались от навязчиво вычурных пропагандистских штампов. Вокруг рупора было удивительно чисто, опрятно, малое село вымыто до блеска, и несколько местных овец, кажется, ходят в сортир по очереди. Наскоро опросив полусонных пастухов, Загорский велел оседлать ему лошадь, чтобы добраться горной тропкой до моста, через который очевидно Бардин уйдет в таежные джунгли, поэтому надо догнать его раньше, желательно на этом берегу.
Маленькая лошадка навевала мысли о монголо-татарских набегах, но для козьих троп это самый подходящий транспорт. Давно Загорский не садился на коня, долго привыкал к седлу, а лошаденка отстраненно брела себя, переступая копытами по крупным булыжникам, и не обращала внимания на понукания и подстегивания.
Тропа кончалась у высохшей наполовину сосны. С деревом рядом глыбой лежал обломок скалы, на котором расселся, болтая ногами, подросток-метис с родимым пятном на виске. Загорский спросил об Ырысту. Мальчишка тронул гуашевую будто бы метку на загорелом лице, сказал, что недавно, и показал на ветку сосны, где повисла белая лента. «Кыйра, – пояснил подросток. – Для духа. Тебе тоже надо». Ошалевшие в шаманизме, подумал Ростислав, достал пистолет из кобуры и в качестве приношения природным божествам дослал патрон в патронник. Лошадь оставил мальчишке, обошел небольшую скалу известнякового рода, остановился у подвесного моста высотой в два человеческих роста, под которым блестел бурный поток. Река шириной метров восемь скрипела обманчивым шумом по каменистому дну. А выше, видимо, впадение того ручья, по которому приехали. Ничего неслышно больше, только плеск. Монотонная песня воды должна приносить спокойствие, но Ростислав почувствовал, как ускоряется пульс. Безнадежно старые доски на мостике, смолянистые на ощупь веревки вместо перил. Под ногами Загорского мост закачался. Головокружительно хлипкое сооружение, прогибающееся, брыкающееся, переправа хочет сбросить человека. Никогда высоты не боялся, подумал Загорский. Что такое? Вцепился в веревку. Ноги еле волочатся. Угрожающе журчит река. Ленту надо было повязать. Места эти смутные, решил Ростислав. Вернуться? Здесь рядом. Сделать обряд, никто не узнает… Что за мысли? Соберись!
Хлоп! Лопнула веревка. Вжик! Порвалась вторая. Мост развалился, Загорский слетел в бурные воды. Дна не достал, вытолкнут на поверхность, течение взяло за сапоги и понесло, понесло. Волны били в глаза, голова уходила под воду. Загорский пробует грести, пытается выплыть. Река сильней. Стройные кедры проносятся мимо. Камни, как кадры, по берегам киноленты. Поплыть не получается. Стремнина не выпускает. Вдохнуть, вдохнуть… Зашелся в кашле. Замолотил по воде руками, закричал что-то, отпусти течение! И отец, Загорский Василий Мефодьевич: «Когда джентльмена ведут на виселицу, вряд ли он сожалеет о двух золотых соверенах». Ам! Охапка воздуха. Неправильный вдох. Кто, отец? «Не сожалеет, что не заработал, не сделал карьеры, – шепчет умирающий Василий Мефодьевич, – есть важные вещи, но их понимаешь, когда уже поздно». Вдох, вдох!
А и все… финиш… Умирать не страшно, подумал Ростислав умиротворенно. Сопротивляться бессмысленно. Сознание отделилось, но еще летело над водой вслед за телом. Такая красота по берегам! Это был не настоящий я, это – артист, каскадер-неудачник. Осенняя зелень тайги, лесной первозданный уют и небо…
Дымок поперек, через реку протянута струйка дугой. На бережку у костра – человек. Он кинулся в воду, размашистыми саженками в секунду догнал Загорского и ухватил за шиворот. Поплыли на берег. Сильнее реки спаситель. Загорский смотрел по течению, дальше – провал водопада. Розыск, работа, линия фронта, и утонуть, разбиться о скалы, захлебнутся чистейшей водой. Мощно гребет человечище, вот уже камни стеной. Как выбираться на сушу? Дно… Можно встать… нет, сносит. «Держись!», – кричит человек. Загорский вцепился в корягу. Корень, торчащий из камня, его обхватил Ростислав и обернулся. Спасший его, сам не сумел, его уносила волной. Лицо! Знакомое до судорог лицо, в его фотографию Загорский ежедневно всматривался три последние месяца, это его запястья ковал наручниками на Черниговщине. Бардин плывет, гребет, но теряет силы, сносит его на речные пороги. Рука вверх-вниз, вторая вверх-вниз. Жестокое журчание озлобленной воды. Бардин пропал из виду. Загорский подтянулся по древесной коряге, выкатил тело на шершавую отмель и лежал бесконечно долго на живительном мелководье.
Выполз на гальку, снял обувь, еще немного полежал, подышал с несказанным удовольствием, слушая шум взбесившейся речки. Потом забрался на обрывчик, сорвав два ногтя на ноге, залез в лес и пошел в сторону бывшей переправы, сутулясь от озноба. Шебутная птаха на верхушке кедра выводила соло похожее на джаз, на композицию знакомую Загорскому еще с довоенных времен. Хвойные ветки нахально хлестали в лицо, радуя Ростислава – больно, так значит, не умер. Никакой тропинки здесь не было, пробирался по зарослям и дышал. Какое это счастье – просто дышать. Если бы воевал, если бывал на переднем краю, то близость смерти, надо думать, не поразила бы, но сражаться с врагом не пришлось. С другой стороны и в оперативной работе были случаи явного риска для жизни. Не впечатляло. А здесь… никогда такого страха не испытывал.
Присел на поваленный ствол. На него уставилась черные горошины-глазки маленького грызуна. «Ты кто?», – спросил Загорский неожиданно для себя. Зверек развернулся и скрылся в ветвях, показав свою рыжую шерстку с полосками на спине. Бурундук, сказал Ростислав и рассмеялся. И долго хохотал, раскачиваясь на лежащем дереве, повторяя: бурундук, бурундук!
Потом пробирался дальше, что-то перешагивая, где-то обходя, и вышел вскоре к задымленной поляне, где тлели лепестки небольшого костра. Загорский упал на землю возле огня, пытаясь вобрать все тепло, излучаемое очагом, сооруженным Бардиным. Верно, погиб бегунок. Если б он знал, кто я такой, прыгнул бы в воду? Скорей всего, да. Я бы не прыгнул. Я вообще был готов пристрелить его к черту, лишняя фигура – прочь с доски.
Загорский повернулся, увидел запас сухих веток, дотянулся до кучи валежника взял несколько, собрался добавить в огонь. И вдруг начал прутом ворошить золу с края костра. Отгребал, отгребал и вытащил. Обугленный фрагмент фотографии, на которой с большим трудом можно было увидеть светловолосую немку. Ха-ха-ха!
Вот и все, подумал Ростислав. Вот и вся история. Ради этого сгоревшего снимка прошел от Берлина к Алтаю, чуть не погиб в горной реке. Спасен. А Ырысту всего ничего не добрался до дома. Но как он был прав! Хрупкую жизнь проводить надо там, где нравится, где хочется, где дом. Важные вещи понимаешь слишком поздно, но иногда дается шанс, и этот шанс, подаренный Алтаем, я не отпущу.
Сорок с лишним лет, самое время начать все сначала, четверть века куда-то бежал, кого-то искал, ехал, думал, влюблялся порой, говорил, редко стрелял, стрелял наугад и наверняка, старался сыграть виртуозно. Не прочувствовал войну, весь ее ужас до дна не испил. Не успел. И убитый маленький немец лежит на германской дороге у города Шведта.
Все сначала, по-другому, только самое важное. А работа? Ростислав Васильевич, надо поработать. Мне нельзя, я запойный: начну погоню, не остановлюсь, пока не рухнет в воду хлипкий мостик, пока не остановит стихия, уволакивающая стремительным течением к смертоносному порогу, на который упоительно смотреть со стороны, но изнутри высокий водопад не сулит ничего хорошего. Видимо надо захлебнуться, чтоб оценить дыхание. Просто дыхание, просто жизнь… Жить и в этом счастье, просто жить.
В это время парень-метис с родимым пятном верхом на лошадке вернулся в деревню. Надо сейчас траву лишнюю со двора выволочь, того-этого напоить, того-этого накормить. На отца нет расчета – в загуле. Имеет право, с войны вернулся. Живой. Одыбается когда, крышу поправим, там вдвоем надо делать. А пока можно свеклу прибрать с одной грядки, ботва уж засохла, хотя еще рано. Погоды меняются что ли, потепление на Земле? Свеклу россыпью в подпол, будет борщ по зиме из баранины. А несколько свекл – на пирожки. Кто знает пирожки со свеклой? Да никто. Только бабушка – певунья с таким опытом. Она выдумщица насчет еды, дай Бог здоровья ей. И матери тоже и папке. Вот зимой пойдем с отцом в тайгу, охотиться будем, жить во времянке, и на лыжах по снегу. Ух, хорошо!