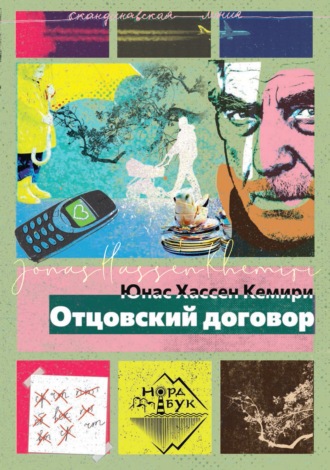
Полная версия
Отцовский договор
– Не вздумай бросить на пол, – говорит мама.
– Апапапапап, – говорит папа.
Младший взвешивает в руке бутылку. Смотрит на старшую сестру. На родителей. Улыбается ‒ и бутылка летит на пол.
Они расходятся, чтобы посвятить время своим вечерним обязанностям. Один надевает памперс и пижаму на младшего, разводит ему кашку на ночь, чистит зубы. Другой занимается примерно тем же со старшей.
– Удачи, – говорят они друг другу. – До встречи после битвы.
Потом один отправляется к детской кроватке, которая стоит рядом с их кроватью, а другой – в детскую к двухъярусной кровати, где внизу спит старшая, а наверху устроен склад сломанных треков для гоночных машинок, еще там расшатанное пластмассовое пианино, деревянная лошадка-качалка, добротно сделанная, но пальцы ног ей прищемить очень просто, и целая куча всего того, что некуда больше положить: сломанный бинокль, три детских рюкзачка, износившийся костюм рождественского гнома, обычная одежда, из которой кто-то вырос, рисунки из садика, которые надо бы вставить в рамочку, чтобы не помялись, бумажные короны с нарисованными цифрами 3 и 4, которые старшая, которой четыре, надевала в садике в свои дни рождения. Процесс укладывания занимает от получаса до полутора. Они читают сказки. Подтыкают одеяло. Обнимают. Целуют на ночь. Пытаются тихонько выскользнуть из комнаты. Их зовут обратно.
Они приносят воды. Приносят горшок. Наконец один засыпает. Потом засыпает вторая. Младший нетерпеливо усаживается в кроватке, пока мама спит, прикорнув на коврике перед ней. Старшая выскальзывает в коридор, как только лежащий рядом с ней папа отключается. Но в конце концов где-то часов в семь-восемь засыпают оба ребенка. Тогда начинается родительское время.
– Давай попьем чайку и посидим в тишине, – говорят они, перейдя на кухню, и заводят ссору. Потому что один смог поспать на час больше другого. Потому что маму постоянно критикуют за ее стремление питаться экологически чистыми продуктами и попытки поменьше кормить детей мясом и молоком, а еще сахаром и глютеном. Потому что на папе лежит обязанность оплачивать все семейные счета.
– Так ведь это я отвечаю за весь семейный доход, – восклицает мама.
– Не за весь, – отвечает папа. – К тому же я сижу с детьми.
– А я работаю полный день, – отвечает мама. – Ну или пытаюсь работать полный день. Но это непросто, если мне в придачу приходится драить ванную, стирать, сушить белье, разбирать и складывать постиранное. Я готовлю по выходным, стригу детям ногти, я…
– А я пылесошу, – говорит папа. – И детский праздник я готовлю. И обновляю беспроводную сеть.
– Это что, так сложно, обновлять беспроводную сеть? – возмущается она.
– А еще я слив в ванне прочищаю, – продолжает он. – И больше ночей дежурю с детьми, чем ты.
– Что ты хочешь, чтобы я тебе на это ответила? – интересуется она и заглядывает в телефон, чтобы проверить, сколько у них осталось времени на спокойные посиделки вдвоем. – Спасибо? Ну спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, что обновляешь сеть. И что слив прочищаешь. Но знаешь, я не понимаю, почему тебе так нужны все эти овации. Мы оба в ответе за семью. Мы помогаем друг другу. Но ты даже посуду из машины не можешь достать, не рассказав мне об этом.
– И что? – спрашивает он.
– Я не понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделала, – отвечает она.
– Сказала спасибо, – отвечает он.
– Да я только этим и занимаюсь, – отвечает она. – Спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо СПАСИБО!
Просыпается младший. Они смотрят друг на друга. Это как дуэль, только выигрывает не тот, кто выстоит, а кто первый сдастся.
– Я пойду, – говорит он.
– Нет, я, – отвечает она.
– Нет, если ты пойдешь, он ни за что не уснет, – говорит он и удаляется в спальню.
Он говорит младшему «шшш». Гладит ему лобик пальцем. Укрывает поплотнее и шепчет, что сейчас все еще ночь. Младший упрямо старается встать на ноги. Он орет до посинения. Всякий раз, когда папа пытается уложить его обратно, он так выкручивается, будто в матрас залили лаву. Наконец папа одерживает верх. После пятнадцати минут ора. Папа все время думает о соседях. Слышат ли они крики? Считают ли, что мы делаем что-то не так? Что мы плохие родители? Стоят ли, вжав ухо в стакан, приставленный к стене, и слушают, как дети просыпаются и орут ночи напролет? А может, подумывают, не пора ли вызвать службу опеки? Он выходит из спальни и крадется тише ниндзя. Наступает на кубики Лего, не издав ни звука. Бесшумно чихает и точно знает, какие из паркетин могут скрипнуть.
К половине десятого младший успевает проснуться четыре раза. В десятом часу мама с папой ложатся спать. В районе одиннадцати младший просыпается и получает кашку. К часу просыпается старшая и бормочет, что ей хочется попить и бананчик, только ложку не надо. В два просыпается младший и бьет себя по губам так, будто у него болят зубки. К половине третьего альведон начинает действовать, и младший снова засыпает. В три просыпается старшая, испугавшись змей за занавесками. В четыре пятнадцать просыпается младший, потому что ему надо позавтракать, послушать сказку, покакать и пробежаться по квартире в ходунках. В полпятого из-за младшего просыпается старшая. Начинается новый день. А потом еще один.
В промежутке между двумя побудками папа лежит на кровати и прислушивается к завываниям ветра в балконной решетке. Он хочет уснуть, но не может. Жена спит на диване. Папа уже и не помнит, когда в последний раз они спали в одной кровати. Его охватывает злость, и он не знает, на чем ее выместить. Если дети не спят, терпения у него хватает на полчаса. Может, на час. А потом возникает желание накрыть старшей лицо подушкой. А младшего швырнуть об стену. Но он этого не делает. Нет, конечно. Это ведь значит быть плохим родителем. Вместо этого он крепко хватает младшего за ляжки и вжимает в матрасик. Чтобы прервать плач, он прыгает на месте, зажав младшего в объятиях. Поет эту треклятую колыбельную про маму-троллиху[15]в первый, в десятый, в пятидесятый раз. Он поет ее тихим голосом, шепчет, пытается читать ее как рэп, выкрикивает ее как можно громче, чтобы перекричать плач. Младший выгибает спину и испуганно орет, отталкивая папу, затылок у него взмок, он осип от крика, он кричит так, словно его жизни что-то угрожает, и папе очень хочется выйти с ним на кухню, включить там свет, заварить себе чаю, достать печенье из шкафа и поговорить с младшим начистоту:
– Эй! Слушай! Слышишь меня? Завязывай уже на фиг. Так нечестно. Серьезно. Ты же должен понимать, что мы делаем все, что в наших силах. Все, что в поликлинике советуют. Репетируем с тобой вечерние ритуалы. Бобовых на ужин не даем. Каждый вечер кормим тебя одной и той же безмолочной экологичной кашкой. Желаем спокойной ночи лампам и машинкам. Чистим зубки. Читаем сказку на ночь и закутываем тебя. Включаем ночник и тихую усыпляющую музыку. Берем тебя на руки, когда ты просыпаешься, кладем обратно, когда успокаиваешься. Но вся эта семейная история, она же строится на том, что ты тоже как-то вкладываешься. Ты не можешь и дальше просыпаться по десять раз за ночь, если мы как родители делаем все от нас зависящее. Обещаешь, что будешь стараться чуть больше? Что сделаешь все возможное, чтобы такое больше не повторялось?
Но папа не выходит из спальни, вместо этого он пробует успокоить младшего, издавая звук, похожий на шум волны, потом на рычание двигателя, потом опять на шум волны, но сын не успокаивается, и волны становятся похожи на цунами, такого кто угодно бы испугался, хотя иногда папе удается развеселить младшего этим звуком так, чтобы тот прокричался до сипоты, выгнулся и загулил. Очень часто это вообще не срабатывает и младший пугается папиного рыка как у моторной лодки, так что еще двадцать минут потом уходит на то, чтобы его успокоить. Когда он наконец засыпает, взмокнуть успевает папа. Он стоит несколько минут, глядя в пустоту. Потом забирается в постель и пытается уснуть.
В последнее время все папины сны о детских площадках. Он качает младшего на качелях. Младшего тошнит. У папы не оказывается при себе влажных салфеток и вместо этого он вытирает его слюнявчиком. Вот и весь сон. В другом сне они сидят в песочнице. Просто сидят. Идет время. Младший берет песок и насыпает в ведерко. Потом высыпает. Потом берет еще песку и насыпает в ведерко. Рядом садится птичка и смотрит на них. Птичка поворачивает голову набок движением, которое папа воспринимает как сострадание, хотя, возможно, это знак равнодушия. Младший не замечает птичку. Он поглощен пересыпанием песка в ведро и из ведра. Вдруг он краснеет и начинает кряхтеть от натуги. Остаток сна папа ходит по большому универмагу и длинным коридорам вроде университетских в поисках пеленального столика. В последнее время доходило до того, что он сам во сне думал, до чего же убогие у него сны.
«Да встряхнись ты уже наконец, – говорил он сам себе во сне. – Пустись ты во все тяжкие. Вылезай из песочницы, выйди на шоссе, вломись в какую-нибудь машину, которая ждет на светофоре, и дуй в ближайший дневной стриптиз-бар. В Швеции вообще есть стриптиз-бары?» «Это же сон, придурок, здесь все возможно!» – о твечал он сам себе. «Точно», – с оглашался он с собой и оставался сидеть в песочнице.
Младший ест песок. Папа вынимает песок у него изо рта и говорит:
– Нельзя есть песок.
Сын засовывает в рот еще немного песка.
Папа вынимает его и повторяет:
– Нельзя есть песок.
Папа ужасно устал, но почему-то не может уснуть. Наконец он засыпает. Через десять минут просыпается младший.
* * *Дедушка, который папа, по-прежнему лежит на диване. Мышцы его ослабли. Позвоночник не держит. Боль в ногах все сильнее, хотя ходит он все меньше, и эта боль уже никуда не денется, потому что она непременный спутник его неизлечимого диабета. Недостаточный приток кислорода в кровь покалечил нервы в ногах.
Тело гниет изнутри, и совсем скоро ему придет конец.
Но хуже всего со зрением. Временами глаза работают как надо. Он смотрит TV4 и различает волоски в бороде у диктора, который объявляет, что сейчас начнется сериал «Без следа», а после него покажут «Крепкий орешек 1» и «Крепкий орешек 2» подряд. Папа улыбается, потому что сложно представить фильмы лучше этих двух. Особенно хороша вторая часть. Начинается «Без следа», и в одном глазу у него все мутнеет, ему приходится прищуриться, чтобы сфокусировать зрение, он не может различить, кто там ходит по заснеженному кладбищу: то ли это мужчина, то ли женщина, то ли лось. Он слышит голоса, полицейские переговариваются на английском, трогается машина, проезжают еще две машины, потом детский смех, скрип от качелей или от несмазанного велосипеда, выстрел, еще два, торопливые шаги, тревожная музыка. Его бывшая жена говорит, что не так все плохо, раз это лишь временные приступы, дети говорят, что он себя накручивает, парень в порту говорит, где в последний раз видел его дочь, но отказывается брать деньги, дочь сначала не узнает его, потом узнает и убегает, ее мать говорит: «Ты не имеешь права преследовать мою дочь».
Надо проверить зрение. Дети должны ему помочь. Пусть залезут в интернет и забронируют ему МРТ всех органов, чтобы он наконец узнал, что с ним не так. Что-то точно не так. Он это чувствует. Только не знает, что именно. Примерно на середине первой рекламной паузы зрение восстанавливается. Серая муть обретает контуры и цвета. Потом начинается «Крепкий орешек 1». Папа засыпает с улыбкой на губах.
III. Пятница
Раннее утро пятницы. В семь двадцать жена, которая мама, заявляется в адвокатское бюро, занимающееся профсоюзными делами, где работает юристом. До девяти, пока нет секретаря, она успевает отправить двадцать мейлов, подготовить одно дело для подачи в Административный апелляционный суд и просмотреть материалы к первой на сегодня встрече. Когда клиентка не появляется к назначенному времени, она просит секретаря дозвониться до нее. На звонок откликается папа клиентки.
– Мы тут. На улице. Она передумала.
– Я спускаюсь, – говорит юристка, которая мама.
Девушка сидит на скамейке в парке, подавшись вперед, так что волосы закрыли лицо.
– Вы кто? – спрашивает папа.
– Ваш законный представитель, – отвечает юристка.
– А по голосу я вас иначе представлял, – говорит папа.
Юристка садится на скамейку. Она откашливается. Потом говорит, что понимает, как это все мерзко. И что бояться в такой ситуации совершенно нормально. Она чуть наклоняется вперед и шепчет:
– Но если мы не заявим на этих гадов, они так и будут продолжать. А этого не должно произойти. Мы остановим этих поганых уродов. Мы их уничтожим, понимаешь? Устроим бойню в зале суда. Кровавую баню. Клянусь тебе. Поверь мне.
Девушка смотрит на нее в замешательстве.
– Вы говорите совсем не как адвокат, – произносит она.
Юристка улыбается.
– Я профсоюзный юрист, – говорит она в ответ. – Хотя и не совсем обычный профсоюзный юрист.
Пока они поднимаются в лифте, юристка, которая мама, рассказывает о своем прошлом, в каком районе жила и какой индекс чеканила рэпом в юности[16], как родители бились за то, чтобы она получила образование и начала работать в такой навороченной конторе.
– Когда я только-только получила диплом, я все боялась, а вдруг люди догадаются, кто я такая, – говорит она. – Теперь уже не боюсь.
– Повторите, что мы с ними сделаем, – просит девушка.
– Устроим массовую резню, – отвечает юристка. – Никакой пощады. Всех казним.
Девушка улыбается. А вот у папы вид озабоченный.
В комнате за закрытыми дверями девушка начинает свою историю. Это папа посоветовал ей ту работу, он заказывал из их ресторана кейтеринг к себе на работу и прочитал на сайте, что им требуется персонал. Она начала работать, когда ей было пятнадцать, первое лето посудомойкой, а к осени стала помогать в цехе холодных закусок. Владельцы там два брата. Один относился к ней хорошо по-нормальному, а вот у другого это «хорошо» напрягало с самого начала. Он начал отпускать ей комплименты, говорил, что она светлая как солнышко, хорошенькая как летний лужок, что он всегда радуется, когда видит ее, ну и всякое такое.
– Но ведь так и есть, – говорит папа. – Если кто-то к тебе хорошо относится, разве это повод возмущаться?
Как-то вечером хозяин преградил ей дорогу и спросил, не хочет ли она заглянуть к нему в контору, а когда она отказалась, он посмеялся и спросил, неужели она не поняла, что он просто шутит.
– Может, это и правда шутка была, – говорит папа. – Ему же за пятьдесят, да?
В другой раз хозяин протянул к ней большой палец, смоченный слюной, чтобы, как он выразился, вытереть у нее с уголка губ пятнышко шоколада.
– И что такого? – с прашивает папа. – Это что, плохо? Не хотел, наверное, чтобы над тобой посмеялись.
– Я же только на смену заступила, – отвечает дочь. – И никакого шоколада до этого не ела.
Начав работать официанткой, она узнала про шкалу, по которой хозяин оценивал всех подчиненных, и мужчин, и женщин, и официанток, и охранников – шкалу вдувабельности.
– Не надо на все подряд так болезненно реагировать, – говорит папа, но уже не так уверенно.
Как-то субботним вечером хозяин спросил, не хочет ли она пойти к нему домой. А через несколько дней заманил ее к себе в контору и с ходу выпалил, что нанял, потому что хотел заняться с ней сексом, что без ума от нее, обещал повысить зарплату и дать ей дополнительные бонусы, сказал, что никогда ни к кому ничего подобного не испытывал, запер дверь и опустил шторы. Папа встает со стула и подходит к окну, но не открывает его. Потом хозяин начал распускать про нее сплетни, рассказывать интимные подробности, утверждать, что она сама на него набросилась и умоляла переспать с ней. Папа садится на место. Он не поднимает глаз от пола и вцепляется в ручки кресла. Когда она стала во всеуслышание возражать, ее вышвырнули и лишь десять месяцев спустя до нее дошли слухи, что были и другие девушки, с которыми в том ресторане вытворяли вещи еще похуже, вот почему она решила, что должна связаться с профсоюзом.
Когда девушка заканчивает свой рассказ, профсоюзная юристка протягивает ей носовой платок. Дочь отказывается, качая головой. Вместо нее платок берет папа.
– Думаете, у нас есть шанс выиграть? – интересуется дочь.
– Мы их одолеем, – отвечает профсоюзная юрист-ка и улыбается.
– А что ж вы не спросите, не приезжие ли они? – интересуется папа.
– Это неважно, – отвечает юристка.
– А для меня важно, – отвечает папа. – Для нас важно. Ведь так, милая?
Девушка молчит.
– Они не местные, – говорит папа. – Правда ведь?
Девушка не реагирует. Папа вздыхает.
– Черт побери… Когда мы уже очнемся и поймем, что разрушили собственную страну?
Профсоюзная юристка сглатывает слюну и воздерживается от высказываний. Она обнимает девушку и говорит, что все уладится.
– Ты замечательная, ты королева, ты все одолеешь, теперь мы с тобой объединились против всего мира, понимаешь? Мы солнце, а они тучи, а тучи приходят и уходят, да? А мы продолжаем сиять. Обещай, что будешь сиять.
Девушка кивает. Папа с дочерью уходят из конторы.
Профсоюзная юристка, которая мама, сегодня рано идет на обед вместе с Себастианом. Они всегда первыми приходят на работу, она – из-за маленьких детей, он – и з-за того, что встает в пять и весь путь до конторы из Дандерюда проделывает на велосипеде. Официант наугад спрашивает, не хочет ли Себастиан рыбное блюдо, а ей предлагает вегетарианское. Оба кивают в ответ. Они обсуждают гладиолусы за окном, терьера, которого Себастиан завел на пробу для дочери-подростка и которого собираются назвать Уголино, преимущества разных бальзамов для волос и сходятся во мнении, что все, ну просто все соусы становятся только лучше, если добавить в них капельку чили. Себастиан расплачивается. Поначалу она делала попытки платить через раз или хотя бы через два, но Себастиан всегда принимал такой обиженный вид, что в конце концов она сдалась. Его волосы ерошатся от ветра, когда официант распахивает перед ними дверь. Себастиан пропускает ее вперед. Как обычно. Как хорошо, что он старый и счастливо женат и что волосы у него поредели и загар сошел, потому что однажды после его возвращения из отпуска она с тревогой поймала себя на мысли, что слишком уж рада видеть его улыбку и руки.
Вернувшись в офис, она включает телефон и получает подряд пять сообщений от мужа. Пять фотографий. И ни одной подписи. Младший, которому годик, и старшая, которой четыре, стоят на лестнице, держась за руки, на их лицах читается крайнее нетерпение. Потом оба балансируют на батуте в каком-то уродливом крытом парке развлечений. Дальше корчат рожицы перед кривым зеркалом. Дети и папа вместе, каждый держит в руках по сплющенному пластмассовому шарику, все заливаются хохотом. Они обожают бывать вместе. Им так хорошо без нее. Она старается вытеснить это неприятное чувство. На последнем фото все четверо стоят в раздевалке, выкрашенной в красный цвет. Дедушка слева. Старшая посередине. Муж с младшим на руках справа.
Все улыбаются. Вроде бы… Старшая корчит рожу. Младший отвернулся. Дед хмурит брови. Но муж-то улыбается. Или пытается улыбаться. Тот, кого они попросили снять их, встал слишком далеко, так что справа видны длинные ряды металлических шкафчиков, а слева спины двух людей, которые не должны были попасть в кадр.
* * *Позднее утро пятницы. Сын, который папа, читает надпись на табличке: «Позвоните ОДИН РАЗ и мы подойдем». «Один раз» подчеркнуто и выделено жирным шрифтом. Папа звонит в звонок один раз. Они ждут. Старшая, которой четыре, хочет бежать дальше, но останавливается перед загородкой из плексигласа, младший, которому годик, болтает ногами, сидя в переноске. Вокруг ни души. Папа достает телефон и демонстративно смотрит на экран, хотя и без того знает, что они уже четверть часа как открыты.
– Здесь никого нет, – говорит старшая.
– Гыыы, – выдает младший.
– Должны были уже открыться, – произносит папа, он говорит это чуть громче, чем надо, чтобы ленивый персонал, который сидит в комнате для отдыха, уткнувшись в телефон, услышал, что вот-вот лишится нескольких потенциальных клиентов.
Никто не появляется. На стойке выставлена еще одна табличка, она гласит, что сюда нельзя заходить с колясками, в обуви или со своей едой. Все это он и так знает. Еще он знает, что они есть по шести другим адресам в городе, знает, что первое заведение открылось пять с половиной лет назад, а самое новое – этим летом. Он знает, что заведение названо в честь правнука канадского владельца парков, что входной билет на ребенка старше двух лет стоит 179 крон, а детей младше двух пускают бесплатно при условии, что ты состоишь в их детском клубе, в котором нет членских взносов.
Чтобы стать членом клуба, нужно просто предъявить удостоверение личности и предоставить свои личные данные и адрес электронной почты. А еще он знает, что они уже четверть часа как открыты. И все это он вычитал на их сайте перед выездом, пока разрабатывал маршрут и набивал детскую сумку баночками с едой и бутылочками, сменной одеждой для детей и для себя, пополнял походный запас памперсов, влажных салфеток и клал в тот же пакет специальную складную подстилку, при наличии которой можно менять памперсы практически везде. Только за прошедший месяц он успел поменять памперсы на полу в библиотеке, на пассажирском месте на переднем сиденье автомобиля, на крыше деревянного домика на детской площадке, на лестнице одного дома в Шеррторпе[17], где снимал квартиру его приятель, когда приятель задержался, хотя должен был уже быть дома.
– Ну чего они не приходят? – спрашивает старшая, которой четыре.
– Не знаю, – отвечает папа.
– Они все умерли? – уточняет старшая.
– Надеюсь, нет, – отвечает папа.
– А вот у Лео бабушка умерла, – говорит старшая и замолкает.
Папа раздумывает, не позвонить ли еще раз. Но там ведь специально выделено, что нужно звонить один раз. Теперь он ждет, что они придут.
– А улитки не умирают, – продолжает старшая.
Подходят две мамочки или же мамочка с подружкой и маленьким ребенком. Они становятся позади папы. Смотрят на него. Папа пожимает плечами и кивает в сторону таблички. Одна из женщин протягивает руку и нажимает на звонок один раз, потом еще дважды.
Паренек, вышедший на звонок неторопливым шагом, не проявляет ни тени беспокойства, он приветствует их с улыбкой, вносит в компьютер папины личные данные, чтобы записать младшего в детский клуб, и рассказывает, что у них здесь двенадцать горок, девять лабиринтов с препятствиями, специальный бассейн с шариками для самых маленьких и совмещенная площадка для игры в футбол и баскетбол в самом дальнем конце справа. Папа порывается сказать, что это не он трезвонил столько раз, но все же не делает этого. Паренек за стойкой вручает ему чек и напоминает, чтобы папа не забыл банковскую карточку.
– Спасибо, что напомнили, – отвечает папа. – Вечно ее забываю.
Они заходят внутрь. Он убирает чек в бумажник. По дороге от кассы он удивляется, зачем сказал, что вечно забывает свою карточку, ведь у него собственная банковская карта с восемнадцати лет, и он не припомнит, чтобы хоть раз ее где-нибудь забыл.
В парке развлечений все выкрашено в сиреневый, желтый и красный, твердые поверхности обиты поролоном, пол мягкий, а вместо перегородок натянуты сетки, так что, когда старшая карабкается на верхний ярус игровой площадки, они не теряют друг друга из виду. Старшая взбирается по веревочной лестнице, прыгает с одного поролонового конуса на другой, раскачивается на лианах, съезжает вниз по желтой горке-трубе. Довольный младший сидит в бассейне с шариками. Он издает громкое мычание, к которому обычно прибегает, лишь когда видит, как кто-то ест мандарины, включает фонарик или набирает воды в ванну. Такое «Му» значит «Дай мне», «Хочу играть», «Об этой штуке я мечтал всю мою коротенькую жизнь».
Папа сидит на полу рядом с младшим. Папа поглощен происходящим на все сто процентов. Он наслаждается моментом. Он действительно целиком и полностью со своими детьми, здесь и сейчас. Потом он включает камеру, чтобы сделать несколько снимков и послать их жене. После этого смотрит, не пришел ли ответ от папы. Потом убирает телефон и снова погружается в происходящее. Потом опять достает телефон и просматривает заголовки утренних газет. Опять откладывает телефон. Потом просматривает выпуски с вечера.
Раздел культуры. Светскую хронику. Потом снова откладывает телефон. Потом проверяет Фейсбук, Инсту и Твиттер. Потом снова откладывает телефон. Он поглощен моментом. Он здесь и сейчас. И нигде больше. Старшая, которой четыре, берет два больших поролоновых кубика и пытается закинуть их вверх на горку.
Младший стучит одним шариком о другой. Папа тихонько вставляет в одно ухо наушник. На сцене Ричард








