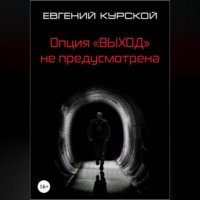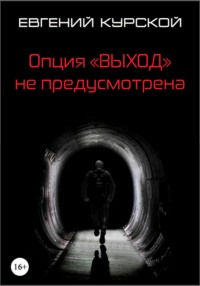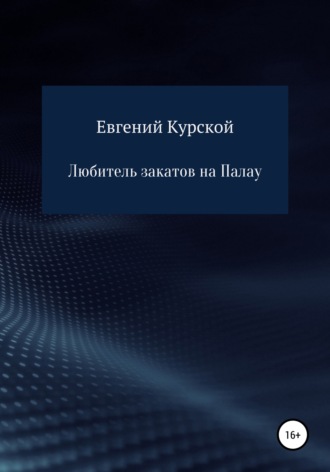 полная версия
полная версияЛюбитель закатов на Палау
– Ну?! – жадно подался вперед он.
– Не знаю, Норми, не знаю. – Я покачал головой, в который уже раз вспоминая бескрайние степи. – У них там трубу какую-то прорвало. Это было за день до моего приезда. Создали комиссию и я в нее влез. Надавил на пару рычагов, позвонил кое-кому… Короче, полетел вместе с комиссией.
– Ну?!!
– Нет, Норми, ничего там нет. Ни развалин, ни дорог, ни памятников, ничего.
– А города?
– Ты слышишь меня? Ничего! Какие города? Там даже руин нет. Одни степи и наши трубы! Иногда попадались деревни аборигенов.
– Ну!
– Просто примитивные деревни. Не знаю, из чего они делают свои дома, но это даже не камень. Укрыты сухой травой.
– А сами местные?
– Дикари, обычные дикари. Прямо как на картинках про какую-нибудь старую Африку или Амазонию. Разве что…
– Что?!! – жадно переспросил Норман.
– Я нигде не нашел их самоназвания. Во всех документах они фигурируют как «дикари». Военные из карантинного корпуса и чиновники миссии называют их обезьянами. А еще они белые. Грязные, неухоженные, но белые. Как мы с тобой.
– Вот оно! – победно провозгласил Норман. – Одного цвета кожи уже достаточно! Расовая принадлежность дает нам отправную точку в расследовании! В Африке нет белых дикарей, в Азии нет белых дикарей, нигде нет, а здесь они есть. Почему? И ты верно пометил, что у них нет официального названия! Будто кому-то нужно, чтобы об этом народе поскорее забыли.
Он схватил с дивана планшет и начал что-то искать, яростно листая страницы и не щадя сенсорного экрана бить по нему пальцами.
– Пока ты там с комиссиями катался, я сидел в библиотеке. И что высидел!
Он повернул планшет экраном ко мне и продемонстрировал две огромные буквы: Ru.
– Это 44-ый элемент химической таблицы металлов и неметаллов, рукрециум. А совсем недавно он назывался чуть иначе – рутениум, всего полвека назад. И нигде нет объяснения происхождения его названия. Ни слова! Все остальные элементы, их больше сотни, имеют свою историю, а рукрециум может похвастаться только своей массой, плотностью и прочей химической чушью. И что я делаю?
– Что ты делаешь?
– Я прошу Сильвию написать мне программу, которая бы в массиве однородных данных искала противоречия.
– Плевое дело! – подала голос Сильвия.
– А потом через эту программу пропускаю все, что нашел по запросу о химической таблице. Программа сначала выдала противоречие, касавшееся авторства таблицы: история науки знает две фамилии и две даты выдачи патента на изобретение таблицы. Но главное, что самым ранним упоминанием о таблице значится 1869 год и автор зовется… – Норман запнулся и принялся читать по слогам: Некто Ми-нди… Нет! Мен-дее-лефф! Вот! Мендеелеефф.
– И что?
– А то! Это единственное упоминание во всех электронных библиотеках мира – раз! Это самое раннее упоминание – два! И больше нигде на планете нет человека с такой же фамилией – три!
– Единственное упоминание? Ну тогда это явно ошибка. При любом цитировании автоматически появляется перекрестная ссылка…
– Заткнись! Я не договорил. Программа Сильвии случайно нашла эту фамилию, но как только я попробовал снова отыскать ту запись в архиве, она просто исчезла. Однако у меня-то сохранились записи в истории поиска и в кэше поисковика. Я их извлек и по этой ссылке-призраку повторил поиск и нашел тысячи подобных записей. Понимаешь? Архивы чистят! Еще недавно эта фамилия мелькала в сотне научных статей, а потом ее вымарывали. Как уничтожили найденную программой Сильвии самую первую запись. И как только я нашел в каком-то захудалом архиве информацию по Мендеелеефф, тут же сработал алгоритм и бот мгновенно стер не только саму запись, но и весь архив.
– Даже так?!
– Это далеко не все! По версии профессора Кофмана, рутениум был специально переименован в рукрециум, чтобы не было связи с корнем «рут», «руц» или «рус». Он нашел данные, что наша восточная река Неман раньше называлась Русс или в некоторых источниках – Русне. Русне! Ты был в тех краях. Именно там! Но самое странное, что в Шотландии есть целая область Росс и когда-то там правил род с такой же фамилией! Представляешь? Где мы и где Шотландия? А в Греции есть остров Порос…
Мне это уже начало надоедать. Одно дело плести забавные теории заговора в уютной комнате под бокальчик красного сухого, другое – пытаться безуспешно доказать их, рискуя собственной шкурой и рисковать репутацией семьи.
– Все это чушь, – устало сказал я, перебивая его. – Ты там не был. А я был. И не увидел ни развалин древних городов, ни фундаментов величественных храмов, ни остатков космодромов. Ничего.
– Так бы тебя и подпустили, – насмешливо бросил Норман. – Покатали по окраинам и домой отправили. Сам же сказал, что тебя раскусили. Вот если бы ты прокатился вглубь территории…
Я уже не слушал Нормана. Я смотрел на Сильвию и не мог поверить, что из-за этой женщины так рисковал и готов был рискнуть еще большим. С момента моего появления и фальшивой сцены обрадованного приветствия, она на меня ни разу не взглянула. Она с обожанием смотрела на брата.
– Бойся русского, – тихо сказал я, опуская голову и начиная искать повод уйти.
– Чего? – всполошился Норман и подлетел ко мне. – А ну, повтори!
– Бойся русского…
– Точно! Эта ваша американская поговорка. И в ней есть этот загадочный «русский». Русс, рутений, русский! Почему мы должны бояться какого-то русского? Не потому ли, что когда-то мы действительно боялись настоящих русских? Русския!
– Чего?
– Страна Русския. Ну, если там жили русские, то и страна должна называться Русския. Красиво звучит!
– И куда же они делись, эти русские? – спросил я и отругал сам себя. Не хотел же снова ввязываться в бессмысленную болтовню Нормана и таки ввязался. Хотел просто рассказать вкратце о поездке, как обещал, и откланяться. Если бы не Сильвия…
– Мы их просто убили. Всех. Как индейцев, как сотни народов Африки и Южной Америки. От этих народов остались лишь единичные топонимы…
Глядя на Сильвию, я неожиданно вспомнил танцующую дикарку и почувствовал сильное волнение. Еще не понимая его причин, я вскочил и вырвал из рук Нормана планшет. Игнорируя протесты, я ввел в поисковик запрос о природных ископаемых в мире. И я уже знал, что увижу. Интерактивная пестрая карта во всех статистических подробностях рассказывала о добыче, транспортировке и переработке спрятанных в недрах богатств с указанием мест, глубин, источников, транспортных веток и крупных предприятий по всему миру. Вот только на той замечательной карте не было Восточной Европы и Центральной Сибири. На их месте гигантской язвой сочилось черное пятно в границах карантинной зоны.
– Ты не там ищешь, – устало сказал я и вернул планшет. – Почему зона называется карантинной?
– Какая еще зона? А… Ну там, значит, карантин какой-то.
– Карантин вводят для пресечения распространения болезней. Никаких эпидемий и уж тем более пандемий в мире не было больше ста лет. Так зачем нужен карантин, да еще под контролем военных, причем именно наших, американских. Где Штаты и где Сибирь? Я бы еще понял, если бы там были немцы с японцами.
– У нас же нет армии…
– А зачем вообще армия? Если карантин, то нужны медики и госпитали. Военные могут помогать организовать и охранять, но лишь на первом этапе. Карантинная зона же существует больше века. И там ни одного госпиталя нет, только заводы и трубопроводы под охраной армии.
Норман и Сильвия непонимающе смотрели на меня.
– Мы за отправную точку берем версию профессора Кофмана, – не унимался Норман, – который утверждает, что на этих территориях когда-то была великая держава. Почему бы не допустить, что у этой державы была своя армия и для ее подавления понадобились американские войска, потому что других на планете нет. Вот тебе и ответ.
– У европейских стран нет. А у европейских корпораций есть. Меньше, чем у нас, но есть. И я очень сомневаюсь, что англичане или французы отказались бы от сибирской нефти. Вот чтобы их туда не пускать, и стоит армия.
Норман раздраженно отмахнулся:
– Ты разговор как всегда перевел на современность, а мы говорили о прошлом. Плевать на сегодня!
– Они всегда связаны. Хочешь понять настоящее, загляни в прошлое. Ты же сам мне во всех красках расписал теорию этого твоего Кофмана, который рассказывал о великих походах на восток.
Услышав обожаемую фамилию, Норман засиял:
– Да-да, европейцы всегда пытались покорить эти дикие земли!
– Не совсем. Хоть я и считаю этого твоего Кофмана дураком, но парочка его идей оказались интересными. В последние дни у меня было много свободного времени и я его тратил на изучение исторических учебников. Оказалось, что в них эти походы упоминаются вскользь. Я проштудировал два десятка академических учебников по истории и везде написано одно и то же: каждый век европейские коалиции под началом той или иной страны предпринимали безуспешные попытки географического исследования диких сибирских пустынь. И все! Походы были, а о результатах этих походов – ни слова.
Норман от охватившего его возбуждения не смог сидеть и принялся накручивать вокруг дивана круги, словно зверь в клетке.
– Для открытия Америки понадобилось всего три корабля, а для исследования Сибири не хватило нескольких веков и многомиллионных армий. Но этот твой Кофман упустил нюанс. После каждого похода с политической карты мира исчезали страны, которые их организовывали. Я с трудом, но нашел данные о численности войск Гитлера. Больше трехсот дивизий! Война шла в Европе, но там Гитлер использовал всего лишь треть своих войск, остальные были заняты на востоке. По версии современных историков, они там занимались поиском и добычей ресурсов для Вермахта. Понимаешь всю нелепость этого утверждения? Германия в сорок четвертом году начинает самую кровопролитную войну, против нее воюет весь мир, а значительная часть ее войск что-то ищет на востоке. Ну бред же! Этим историки, кстати, и объясняют поражение Германии во Второй Мировой. Тогда получается, что Гитлер был клиническим идиотом. Он был военным преступником, но не идиотом точно.
– Он с кем-то воевал на востоке! – догадался Норман.
– Как и другие до него. Наполеон и Франция в девятнадцатом веке. Король Карл и Швеция в восемнадцатом. Все страны после странных географических изысканий на востоке потом теряли влияние в мире, собственные территории и даже суверенитет, как Германия после поражения во Второй Мировой.
– А твоя страна, значит, не проиграла? – тихо сказал Норман, со злым прищуром глядя на меня. – Пришла и осталась?
– Получается, – кивнул я, почему-то почувствовав укол совести. – Осталась, чтобы качать ресурсы, никого туда не пускать и никого из местных не выпускать.
– Красивая история получается! – мечтательно сказал Норман, закатывая глаза. – Надо бы профессору Кофману рассказать, ему понравится.
– Не понравится. Этот твой Кофман из тех недоумков, которые только себя любят слышать.
– Это правда, – признал Норман, загрустив. Кофман был большим интеллектуалом с недюжинной фантазией, но при этом не терпел чужого мнения. – Хотя такая версия даже его напугает. Он и так говорит, что за ним следят и постоянно портят ему репутацию ученого.
– Он сам себе ее испортил. Да и кому он нужен? Не удивлюсь, если ему еще и помогают.
– Это еще зачем?
– Чтобы смещался фокус внимания. Это все ведь недавняя история, мы Гитлера разбили всего полтора века назад. А этот твой Кофман талдычит про тысячи лет назад, про великую цивилизацию, про космодромы, про стены до небес и дороги из уникального непостижимого материала.
– Ну стена-то на самом деле есть. В континентальной Японии. Кофман утверждает, что нашел доказательства ее строительства тысячи лет назад чайным народом.
– Чайным народом? – засмеялся я. – И опять тысячи лет. Чего не миллионы? Далекое видим лучше, чем расположенное под носом.
Норман немного смутился.
– Ну, или кофейным народом. Я не помню. Сути-то это не меняет. Я сам видел старую карту, на которой Япония ютится на жалких островах Дальнего Востока, а сейчас она занимает всю Азию.
– Бред. Япония всегда была огромной, древней и великой. Они даже с нами воевали во времена Второй Мировой.
– Ты не понял! – отмахнулся Норман. – Профессор Кофман доказывает, что историю неоднократно переписывали. Есть же поговорка, что историю пишут победители. Вот вы, американцы, и переписали ее под себя.
– Чушь…
– Только на первый взгляд. Ты говоришь, что прочитал много исторических книг. А какие это книги?
– Обычные книги. Из библиотеки.
– Нет! Это электронные книги, которые редактируются мгновенно по щелчку пальцев. А ты знаешь, что раньше книги были бумажными?
– Конечно, знаю. У моего деда была большая библиотека…
– И где она теперь? – с издевкой спросил Норман. Мне сказать было нечего, я действительно не знал, потому ответил он сам: – Ее изъяли. Как и все остальные книги по всему миру после принятия экологического акта о запрете переработки древесины. Вот только туалетную бумагу, упаковку и прочие салфетки производят до сих пор, а книги существуют только цифровые. Суть в том, что можно легко переписать любую информацию, контролируя ее источники. Наши источники только электронные.
– Ну это вы с этим твоим Кофманом загнули! – я неестественно хохотнул, пытаясь унять охватившее меня волнение. – Такое загнули, что втроем не разогнуть.
– Поздно уже разгибать, – устало махнул он рукой и отвернулся к ночному городу. – Информация контролируется в каждой букве. Я сам столкнулся с этим. Как только нашел случайно сохраненные данные по тому древнему химику Мендеелеефф, ее мгновенно стерли.
– А как определили, что нужно стирать? – подала голос Сильвия и мы одновременно посмотрели на нее, удивленные. – Это же алгоритм, последовательность. Тупая программа. Чтобы понять, что пользователь нашел неподобающую информацию, она должна ее сверить с неким эталоном. Значит, где-то в электронных недрах хранятся исконные данные: даты, фамилии, события. Бот реагирует на них, как собака на запах.
– Умница ты моя! – Норман смотрел на сестру с восхищенным обожанием. С таким обожанием, что мне рядом с ними даже чуточку неловко сделалось. – А достать эти данные можно?
– Конечно. Если один человек спрятал, другой легко сможет найти. Нужно только знать, где и что искать…
Ее прервал вой сирены. В городе этот звук был привычным наполнением урбанистического шума и на него не реагировали, особенно, если он раздавался где-то далеко. На сей же раз мы обратили на него внимание, тревожно переглянулись и бросились к ограждению балкона, устремляясь взглядом вниз. По пешеходной зоне квартала, сиренами и мигалками распугивая праздно шатающихся, медленно ползли пять патрульных автомобилей. Когда они остановились возле нашего дома и из машин принялись неспешно выбираться полицейские в полной экипировке с оружием, у меня сердце ушло в пятки. Однако стражи порядка, посовещавшись, направились в переулок между домами напротив.
– Пронесло, – услышал я шепот Нормана. Мы с Сильвией не проронили ни звука, но думали о том же.
– По-моему, на сегодня хватит, – выразил я общее мнение и вернулся на диван. Сильвия, ни на кого не глядя, на цыпочках юркнула в квартиру. Норман стоял, раскачиваясь с пятки на носок, и смотрел вдаль.
– Останешься на ночь?
– Нет. У меня самолет через пять часов. Где-нибудь перекушу и…
Я не договорил, да Норман уже и не слушал. Мы все словно в один миг протрезвели и ощутили стыд друг перед другом за сделанное накануне. Я кожей чувствовал его неприязнь. У меня были похожие чувства. Мне вдруг осточертели и Норман с сестрой, и обожаемый им профессор Кофман с его бредовыми идеями, и нудная скучная Германия. Все надоело. Впервые за многие годы захотелось домой.
Спускаясь в лифте, я невольно думал о мифической стране, населенной загадочными и ужасными русскими. Идя по ночному Берлину, я грезил о богатых землях на востоке. Садясь в такси, я вспоминал танец красивой дикарки. Откинувшись на спинку кресла в самолете и глядя в иллюминатор на пелену облаков, закрывших город, я прощался с Европой.
Норман верил, что когда-то на востоке существовала полная чудес Русския, Сильвия верила, я тоже почти уверовал и с азартом включился в чужую игру, но играть по вычурным правилам этой игры у меня не получилось. Красивые легенды захватывающи и притягательны лишь до первого столкновения с жестокой реальностью. Просто я прозрел после поездки в Восточную Европу, а Норман с профессором Кофманом так и остались слепы. Они продолжат верить в таинственную восточную страну, населенную одухотворенным мудрым народом. Я же убежден, что не было ни страны, ни народа, ни древних тайн, ни гениального химика Мендеелеефф. Кто-то на тех землях жил всегда и сейчас живет, никому не нужный примитивный дикий народ. Не с ним воевали Наполеон с Гитлером, а с их нечеловеческой средой обитания, с морозами, с топями, с дикими необузданными пространствами. Да и сама мысль была абсурдна, что из общей истории человечества можно безболезненно выкинуть огромный пласт. К тому же, эта мысль ужасала, потому что допускала возможность подвергать забвению государства, народы, культуру, языки. Получается, что если легко вычеркнули Русскию, то могут вычеркнуть и Штаты? Нет, это нелепо. Что и как нужно сделать, чтобы заставить всех забыть о великой стране, вычеркнуть упоминание о ней из информационных баз, чтобы на запрос «американцы» поисковик выдавал короткое сообщение «Результатов не найдено»? Нет, это невозможно, решительно невозможно…
2010 год
Корни
Ватными ногами переступив порог тамбура шлюзовой камеры, я осторожно заглянул в пассажирский салон. Пустой. Облегченно выдохнув, уже смело пошел между двух рядов кресел в поисках своего. В тот момент мне меньше всего хотелось встретить даже шапочно знакомого, не говоря уже про коллег, и что-то объяснять, говорить. Говорить мне в тот момент хотелось меньше всего.
Естественно, я протопал мимо своего восемнадцатого места. Мысли были далеко, а ноги сами привычно направились в хвост, где располагались последние кресла двадцатиместного салона старых «Прогрессов». Это был новый, безопасный, комфортабельный, тридцатиместный. На нем помимо пилотов в экипаже были даже бортпроводники. Одна из них, изящная и ловкая даже несмотря на громоздкий скафандр, и пришла на помощь. Улыбнулась, подхватила под локоть, провела к моему месту, усадила, проверила все фиксирующие крепления скафандра, подсоединила шлейфы системы жизнеобеспечения.
– Первый раз были на Луне?
– Так заметно? – отшутился я, не став уточнять, что проработал на спутнике больше трех лет, а уж сколько раз летал на Землю и обратно – даже я сам не помнил.
– Заметно, что вы чем-то очень встревожены. Мне хочется думать, что всего лишь предстоящим полетом. Поверьте, двадцать часов пролетят незаметно. Если хотите, есть успокоительное, снотворное.
Я покачал головой.
– Не переживайте, корабль «Прогресс-Одиссей» очень надежный…
И все же я переживал. Не за надежность корабля или опытность его экипажа, а за собственное душевное равновесие. Хорошенькая бортпроводница чутко уловила мое настроение, только не угадала с источником проблемы. Я терзался безуспешными попытками найти объяснение внезапной чертовщине. Помню, как в университете на редких парах по литературе мы втайне потешались над преподавателем, пытавшимся вложить в наши циничные юные души хоть толику сострадания. Литературой мы пренебрегали и считали бессмыслицей, только забирающей учебные часы у физики с математикой. А уж болтовню о последней надежде, смысле жизни и прочих душевных терзаниях литературных героев вовсе ненавидели. Моральные метания персонажей из книг пыльного прошлого нам казались ерундой на фоне глобальных проблем человечества, которые мы хотели решать немедля. Для нас не существовало проблемы выбора, поиска мотивации и страха перед неудачей. Мы ничего не боялись, удачу презирали, над суевериями и прочей мистикой смеялись. Скажи кто мне тогдашнему, что я нынешний буду задаваться вопросами невезения и наступления черной полосы в жизни, рассмеялся бы в лицо, а то и поколотил бы. И все же, еще сегодня утром я сидел в Институте и ломал голову над предстоящим испытанием, а уже в обед – оказался в корабле, готовом стартовать к Земле. Мистика, не иначе.
Не успел я в лаборатории надеть защитный костюм, как ворвалась Даша Самсонова из отдела кадров и принялась меня отчитывать за неуплату каких-то взносов. Мы Дашу очень любили, особенно когда она гневалась, из просто симпатичной превращаясь в красавицу-фурию, а потому часто позволяли себе вольности. Это была такая местечковая игра, правила которой всех устраивали. Однако в тот раз Даша и не думала играть, она все мои попытки перевести разговор на шутливые рельсы пресекла, а потом добила угрозой написать на меня докладную «куда надо». Мол, весь Институт как Институт, и только механико-магнитная лаборатория срывает план. Мало того, что злостно уклоняемся от уплаты взносов, так еще и не ходим в отпуск. Это правда. Я за все годы работы в Институте ни разу не брал отпуск. Никто не брал. Зачем транжирить и без того дефицитное время?
Все административные вопросы у нас решались через Филиппа Игоревича. Достаточно было даже не сказать, а намекнуть, как любая проблема улетучивалась быстрее утреннего тумана. Однако на сей раз вместо поддержки и одобрения, наш старик Филипыч спустил на меня еще больше собак, чем Даша, и пригрозил меня вообще выгнать из Института. К концу отповеди он все же смягчился, и по тому, как неловко опускал глаза и нервно теребил седые бакенбарды, я понял, что ему самому происходящее нравится не больше моего.
– Надо, Саня, надо! Ты же знаешь, закон есть закон. Придется лететь!
Я слушал его и не верил. Мой бесстрашный наставник отступил под нажимом бумагомарак из отдела кадров и прогнулся перед каким-то старым законом. В не остывший после выброса реактор войти первым он не испугался, приструнить президента Академии наук не побоялся, а тут вдруг – смирись, придется лететь.
Я и смирился. Хотя ни черта не понимал в происходящем. Прервать важнейший эксперимент ради какого-то отпуска? Порой мы себе во сне отказывали и поесть лишний раз забывали, а тут такое… Но Филиппу Игоревичу я верил больше, чем себе. А потому скомкано простился с ребятами, ошарашенными происходящим не меньше моего, сдал ключи доступа и лабораторные журналы дежурному, расписался в сотне каких-то бумаг, а затем в сопровождении охраны был выпровожен с территории Института. Наставник уверял, что это только на месяц, потом все будет как прежде, однако со стороны это больше напоминало не проводы в отпуск, а изгнание. Особенно меня расстроило, что обормоты из отдела снабжения забрали мой черный рабочий скафандр, взамен наградив фривольным непотребством серебристого цвета с малиново-оранжевыми вставками. Как какому-нибудь бездельнику из отдела кадров. Это меня окончательно подкосило. Не хватало, чтобы кто-нибудь из знакомых случайно увидел, от позора не отмыться.
Происходившее потом было как в тумане. Смутно помню, как в советском посольстве получил банковскую карточку с внушительной суммой неиспользованных за последние годы зарплат, паспорт и билет на Землю.
Мои мрачные мысли прервал раздавшийся со стороны шлюза нарастающий шум. Через минуту в салон ввалилась толпа туристов, устроивших хаос с поиском мест, багажа, документов. И снова закралась мысль о чуде. Вдруг мое место срочно понадобится кому-нибудь из этих жирных миллионеров и мне придется лететь позже? Или в салон выйдет пилот и скажет о технической неисправности. Или бортпроводница с прискорбием сообщит, что корабль перегружен и кому-то придется сойти. И тогда я радостно вызовусь добровольцем, а потом вернусь в Институт, разведу руками – мол, обстоятельства, и приступлю к прерванной работе…
Но чуда не произошло. На многоязычном табло загорелось требование проверить герметичность скафандров и крепления системы безопасности. Голос командира корабля в наушниках шлема на русском и английском объявил о готовности к полету.
Через обзорный монитор, реалистично имитировавший круглый ретро иллюминатор, я бросил последний взгляд на выжженный злым солнцем бурый лунный пейзаж с далекими зелеными куполами жилых модулей, белыми сотами модулей космопорта, гигантскими черными змеями трубопроводов и фермами вышек связи. Послышался хлопок закрывшегося шлюза, затем с сотрясшим весь корабль рывком отделился трап и тут же панорама резко сместилась в сторону и начала опрокидываться – корабль поднимали на стартовую площадку. Это вызвало новый приступ восторга среди туристов. Какой-то австралиец пытался делиться впечатлениями от полета на Луну и со мной, слепя белозубой улыбкой и обдавая волнами дружелюбия, но я соврал, что не понимаю английского, и виновато развел руками. Если бы он знал, как гадко было на душе в ту минуту. А от мысли, что я торчал среди этих беспечных увальней, когда моя группа без меня готовилась к финальной фазе испытаний, стало еще хуже.