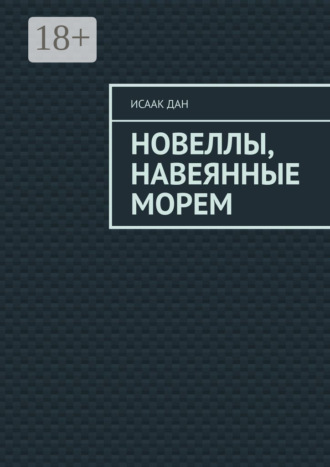
Полная версия
Новеллы, навеянные морем
Была пауза. Галина сильней и сильней прижималась к нему. Он обнял её за плечи. И бухты-то не видел, не верил своему счастью. Но шелест огромных листьев навсегда остался в памяти.
И что она сказала ещё!
– Мы проживём тут долго. Очень долго. Может быть, всю жизнь!
Он забеспокоился. Это было первое назначение офицером. Он служил уже матросом в Баренцовом море. Мичманом на Тихом океане. Знал по своему детству, сколько раз может менять место жительства человек военный.
– Знаешь, – начал он робко, – офицерская доля такая, мы с тобой говорили, сегодня здесь, завтра там…
– Молчи, не говори ничего, – она закрыла ему рот кончиками пальцев, – я чувствую, мы проживём здесь долго! Молчи! Молчи!
И поцеловала его. Впервые сама поцеловала, а не безвольно ответила его губам. Виктор снова почувствовал, как дрожит. Отсюда всё начиналось! С этого момента всё пошло, как надо! Уже на следующее утро он получил ключи от служебной квартиры. И они прожили здесь столько долгих лет. Жизнь, которой как будто и не было.
Виктор понял – в уголках глаз слёзы. Он осторожно смахнул их. Обернулся, никто ли его не видел. И твёрдой маршевой походкой начал спускаться вниз.
– Здорово, Витёк! – был уже значительно ниже, когда позвали из бокового, пересекающегося переулка. Долговязый Серёга, Серый, как чаще всего к нему обращались, грубовато и неуклюже, гротескно аляповатым движением, словно в замедленной съёмке, махал рукой. Было ощущение, что он искренне рад видеть Виктора, и выражает ему глубокую товарищескую симпатию. С Серым были Феня и Гиндос.
Гиндос всегда крутился рядом с Серым. Он никогда нигде не работал, имел инвалидность в психоневрологическом диспансере. С мозгами у Гиндоса было очень худо, но он слушал всё, что бы ни говорил Серый, они пили чаще всего на его пенсию, или на то, что сорокалетний Гиндос выпрашивал у своей престарелой матери, которая сдавала халупу близко от берега.
История Фени была чем-то похожа на историю Виктора. Он был когда-то механиком на рыболовецком траулере, у него были жена и две дочери, квартира недалеко от вокзала. С женой они не ладили, Феня пил, а когда Союз рухнул, и стали задерживать зарплату, семья впала в нищету, стал пить только сильнее, затем его поймали на краже. Кража была ничтожной, смехотворной по тем временам, он выносил в двух хозяйственных сумках рыбу, чтобы жена продала на рынке, в этот период весь комбинат, в большом и малом раскрадывали по частям. Феня, тогда ещё Валера, таскал ничтожную часть улова регулярно и за кражу это не считал. Не верил, что осудят, даже не попробовал откупиться, в суде не признавал вину, говорил – все так делают, ругал начальство комбината. В итоге за две сумки рыбы поехал на пару лет в колонию. Жена с ним развелась, выписала его из квартиры, когда вернулся у него в доме жил азербайджанец, который за это время стал одним из заправил на центральном рынке. К слову сказать, он хорошо содержал не только бывшую жену Фени, но и его дочерей, несмотря на то, что у него была своя семья и человек пять детей где-то в Ленкорани, старший из которых уже присматривал на рынке за мясным павильоном. Новый сожитель бывшей жены вначале предлагал Фене снять квартиру, устроить грузчиком, потом периодически давал мелкие деньги. Пользы от Фени на шарашках было мало, у него сильно дрожали руки, он и ходил-то, едва держась на ногах, поэтому, когда финансы у Серого иссякали, тот кричал на Феню: «Иди к своему хачику».
Но больше всего Феню добило, что его не захотели видеть дочки, которых очень любил. Бывшая жена сильно не чуралась, даже где-то жалела и, наверное, отчасти – мучилась совестью. В дом, конечно, не пускала, но, встретив на улице, не отворачивалась. Хоть денег и не давала, справедливо полагая, что он их пропьёт, но всегда предлагала накормить, совала в руки какие-то продукты, уговаривала Феню уехать к братьям под Вологду. А обе дочери делали вид, что не знают Феню, и издали, завидев его, сразу пытались скрыться.
Феня пил безбожно, не просыхая, и был известен только в двух состояниях – умопомрачительно пьяным или с ужасного перепоя. И в том и другом случае он или молчал, или говорил много и быстро, будто набрав полный рот каши, в речи его можно было ухватить в основном мат и междометья, очень редко и только будучи обладателем тонкого слуха – ещё какие-то русские слова. Его бормотание, которое мало кто мог понять, называли феней, отсюда было его прозвище.
Узнав судьбу Фени, Виктор поразился какому-то сходству со своей. Он временами испытывал к нему такую жалость! В то же время никогда не мог побороть отвращения к Фене, никто не опускался так низко, даже безмозглый Гиндос.
Сегодня, неожиданно, увидев их, Виктор почувствовал с удивительной остротой это отвращение. К Фене, к Серому, к ним всем. К себе. Хотя давно уже временами переставал отделять себя от них, чувствовал их действительно своими товарищами. Чувство своих, которое было так важно для него, без которого ему было так трудно жить, распространялось теперь на них, кого ещё мог звать своими? Сегодня захотелось бежать. Спрятаться. Остаться наедине с мыслями и воспоминаниями. Виктор с трудом овладел собой. Приветственно махнул Серому в ответ и направился к ним.
Серый никогда нигде толком не работал, ничего толком не умел, сидел несколько раз за мелкие кражи, но подлинным вором не был, настоящие блатные его презирали. Виктор не мог понять, в чём именно состоит привлекательность Серого или его талант, может только в том, что жил здесь всю жизнь, и весь город знал его, но люди обращались именно к нему. Нужно ли было что-то разгружать по цене, которая не устраивала портовых грузчиков, копать ли могилу почти задарма, перетаскивать холм песка с улицы во двор от вороватых соседей, вынести что-то под покровом ночи с давно закрывшихся предприятий, первым делом шли к Серому. В среде людей без определенного жилья, работы, семей, во многом уже без части обычного человеческого облика, но не кочующих, а как-то привязанных к городу, Серый был большим авторитетом, для кого-то, например, для Фени и Гиндоса, даже тираном и деспотом. Заработок Виктора, которому в отличие от них всех как воздух были необходимы бритвы и мыло, во многом зависел от него. Почему-то, мало кто мог подойти прямо к Виктору и договориться о работе, шли к Серому, даже те, кто знал, что только Виктор работает добросовестно и никогда не крадёт, шли и говорили: «пусть только придёт этот Ваш, как его, Витёк». Серый, правда, всегда хорошо набивал ему цену, каким образом, тоже оставалось для Виктора непостижимым. При этом употреблялся минимальный набор слов: «ну, не знаю, блядь, Витёк – он такой, может и не согласится, может послать всех на хуй». Но если договаривались с Серым – проигрыша в деньгах не было, несмотря на его долю. Виктор знал, хотя это пытались сделать для него тайной, несколько раз к нему обращались через Серого и слишком хорошо платили те, с кем когда-то вместе служил.
Он пожал руку Серому, затем Фене и Гиндосу. Серый на секунду задержал его руку в своей, заглянул в глаза. Он питал к Виктору странную привязанность. Одновременно страшно завидовал ему. Порой пытался как-то уколоть, будто отомстить.
После детдома и колонии для несовершеннолетних Серый почему-то так и не отбыл срочную, может из-за туберкулеза, он никогда на эту тему не распространялся, озлоблялся, если кто-то хотя бы вскользь упоминал об этом. Даже среди них срочную служили почти все, не считая таких, как Гиндос, хотя бы в стройбате или в железнодорожных, ну а тот же Феня, к примеру, оттрубил своё в танковых. Для многих время службы было самым ярким и необычным из всей последующей жизни.
Серый не служил, но Виктор, несколько раз видел, как он ожесточенно спорил о вооружениях, о войсках, о преимуществах советской армии над американской. Однажды заметил, как он с упоением и завистью наблюдает за молодыми матросами, идущими строем по улице. Виктор знал, что Серый завидует блатным и пытается изображать из себя более «крутого», чем это было на самом деле. Но никогда Серый не смотрел на блатных с таким восхищением. Никогда не говорил о тюрьме и о кражах с той страстью, с которой рассуждал о ракетах, самолетах и танках, хотя о тюрьме ему и впрямь было что поведать, а познания о военном деле у него были не больше, чем у ребенка. Серый в своем кругу любил, чтобы подолгу слушали только его, но всегда умолкал и позволял солировать тому, кто рассказывал о времени, проведенном в армии.
Смешно! Долговязый, нескладный, туберкулезный, не собранный, никогда бы не вынесший армейской дисциплины, впитавший в себя абсолютно иные понятия, бравировавший своей разнузданностью и открыто выражавший негодование всему, что было связано с порядком, обязанностями, формой. Видно, армия была его детской мечтой, которой не суждено было сбыться!
Их близкое знакомство началось едва не с драки, Виктор один разгрузил контейнер, того не зная, что Серый заломил за это цену вдвое выше, рассчитывая управиться с четырьмя подручными. Впятером они окружили его, мышцы Виктора горели и болели после тяжкой работы. Как не странно, подобные ситуации тогда для Виктора были в далеком прошлом. Такое часто случалось, когда был подростком, в основном из-за Галины, но последний раз – на первом году срочной, даже в училище порой приходилось разнимать товарищей, но не был участником драк сам. Всю жизнь, правда, больше всего в юности, Виктор боялся струсить и поступить недостойно, и знал за собой, труднее быть стойким одному, а не на глазах у товарищей, или матросов, за которых отвечал.
Но хотя он был один, а их пятеро, хотя смертельно устал, страха не было. Пожалуй, единственное, что беспокоило – у него в то время был не закрыт условный срок. Тогда только недавно исполнилось сорок. За плечами – первый разряд по самбо, много лет упорных физических занятий, последние годы службы снова стал выкладываться во всю, как в детстве, сперва заметив, что у него появился животик, затем выплескивая в спортзале бесконечную злость, что переполняла и сжигала. Злость от того, что твориться со страной, с флотом. От того, что творилось между ним и Галиной.
Ещё недавно он умел добиваться своего от молодых, здоровых и сильных мужчин. Порой своенравных и обозлённых. Конечно, тогда его защищала стена, воздвигнутая уставом и положением офицера, несколько случаев ему было известно, но на него самый дерзкий и непокорный из матросов и мичманов никогда не решился поднять руку. Но флотские были крепче, твёрже, цельней, чем та компания, что теперь окружила, а всегда мог подчинить флотских своей воле. А эти вокруг были бы на положении карасей-первогодков полных три года службы, попади они на флот, что, впрочем, в те времена было невозможно – таких не брали.
И Виктор говорил сухо, без напора, твёрдо. Не провоцируя драку сам, но ни в чём не уступая, любую уступку они расценили бы, как слабость. Он был готов. Когда Серый, матерясь, начал наступать на него, большой, высокий, но сутулый и нескладный, секундой позже стало понятно – рассчитывал только напугать, Виктор сделал короткий шаг вперёд в боевой стойке. Следующий шаг и удар во впалую грудь, в солнечное сплетение, Виктор видел это, чувствовал, движения были чётки и слажены. Но Серый отшатнулся от первого короткого шага, как от огня, опрокинулся назад, потерял равновесие, свалился, затем вскочил и отбежал подальше, и дружки, как по команде отодвинулись от Виктора метра на три. На таком расстоянии они потом за ним и шли, изрыгая проклятия и угрозы.
Подобная перепалка ничего особенно не значила в жизни Серого, таких эпизодов у него было по паре в месяц. И авторитет его среди опустившейся части города не раз попирали те, кто был «покруче», всегда более жестоко и унизительно. Виктор знал, что было причиной самой большой обиды. Он никогда не говорил с ним – да ни с кем их них! – о своём прошлом. Хотя Серый не раз добивался этого, то нагловато-дерзкими прямыми вопросами, то подходя издалека, почти робко, с теплотой и нежностью, такими, что трудно было поверить, что говорит и смотрит он.
Они привыкли друг к другу. Серый перестал расспрашивать его. Виктор, держась на дистанции, никогда не оспаривал его верховенства. Серый был нужен, чтобы выжить. Сколько ни говорил себе, что связывается с ним последний раз. Виктор приносил Серому хороший доход. Он был надёжен, а на свою свиту Серый ни в чём не мог положиться. Но где-то внутри у Серого сидело и желание отомстить Виктору, и восхищение им, подобное тому, что у него вызывали марширующие матросы.
– Заработал чё? – спросил Серый.
– Ну, – ответил Виктор.
– Слушай, дай трёху! Позарез надо! – Серый быстро провёл длинным и кривым указательным пальцем по горлу возле кадыка и тут же шумно сглотнул слюну, словно изнемогая от жажды.
Стоял сезон. Люди качали деньги из отдыхающих. С каждым годом их приезжало всё больше, их было уже почти, как в советские времена, и в эти несколько месяцев город поднимался из запустения, в котором оказался, когда время Союза ушло навсегда. А у Виктора были первые три гривны за два дня! На чердаке, где он жил, оставалось лишь немного заплесневелового хлеба и кусок копчёного сала, которым, верно, уже можно было отравиться. Виктор тоже сглотнул слюну. И снова почувствовал к себе отвращение, будто он уподобился Серому.
Виктору не раз приходилось ему отказывать. Научился это делать, не вызывая обид и ссор, в крайнем случае переживая мелкие ссоры и пару дней обиды Серого. Научился высчитывать сам, сколько полагалось Серому от разных, обтяпанных им халтур. Серый не любил точности, никогда не придерживался договорённости строго, всё у него было «по-людски» и «по дружбе», и разными «позарез», «выручи» и «потом отдам» всегда старался вытянуть как можно больше. С ним нужно было делиться. По крайней мере пока, говорил себе Виктор. Его наглость нужно было пресекать. Спокойно, с улыбкой, но без малейшей уступки. Сегодня Серому по расчётам Виктора нечего не полагалось.
Но Виктор отдал. Три. То, что было. Стало так тошно оборонять от Серого свой скудный заработок. Тошно тянуть рядом с ними новые бесполезные минуты своей бессмысленной жизни. И, перебросившись парой кратких фраз, скорей зашагал в сторону. Не к вокзалу, где можно было ждать, что ещё перепадёт. Не к чердаку, где был хлеб. Прочь от Серого и его компании. Прочь от тупого ожидания жалкого заработка. Прочь от голода, ноющего в животе. Прочь от всего, к чему, казалось, уже привык. Если идти быстро, старые переулки будто текли мимо него. Подбадривая и утешая. Ветер, поднявшийся с моря, толкал его в спину. Ласково. Вроде бы, если двигаться быстро, было меньше тошнотворной мути внутри – тяжести, внезапно пронзившей его на площадке над морем, смешавшейся с голодом и кислым вкусом жары. Тоска и безнадежность, что сегодня прорвали всегда защищавшую скорлупу, совсем не отставали, но, словно бы, были чуть-чуть позади. Так было чуть легче.
И Виктор спешил.
Выскочив на одну из широких улиц, где тротуары недавно выложили новой брусчаткой, а нескончаемые дыры проезжей части залили ровным полотном пока не треснувшего асфальта, заспешил сильнее. Он давно избегал таких мест. Он их боялся. Надо было вновь вклиниться в переулок, и спешить по нему. Быстро пройти помешали машины. А когда путь был свободен, уже услышал оклик.
– Виктор Сергеевич!
И Виктор понял, что попался.
– Виктор Сергеевич, не надо так бежать, подойдите ко мне!
Люди на улице остановились и самыми выразительными жестами показывали Виктору за спину. Ему было не вырваться. Пришлось обернуться.
Это был мэр города. Виктору удавалось избежать этой встречи несколько лет.
Он уже вышел из своего белого мерседеса, может даже и потому, что увидел Виктора. Два дюжих охранника, торопясь, выскакивали вслед, с подозрением оглядываясь вокруг, то и дело взводя прицелы пустых зрачков на Виктора, на остановившихся людей, и в конце концов сконцентрировавшись на старых «Жигулях», что медленно и робко пытались уехать с этого места.
– Виктор Сергеевич, не убегайте, идите сюда! – повторил мэр.
Виктор пошел навстречу. Он не умер от стыда, как представлял себе когда-то. Ветер дул теперь в лицо, свежий, несущий запах моря, несмотря на то, что оно было далеко.
– Здравствуйте, Виктор Сергеевич, – мэр протягивал руку, – Надеюсь представляться не надо, Вы меня помните?
Виктор сперва хотел вытереть свою. Почувствовал на ладони пот, почувствовал боль в груди от того, что ладонь была грязной и скользкой. А затем просто пожал руку мэра. Безо всякого стыда. Видно, стыд потихоньку, незаметно отлетал от него и, наконец, испарился совсем, пока закрывшись ото всех в скорлупе, словно в навозную жижу погружался в свою новую жизнь.
Мэр заговорил. Он давно хотел разыскать Виктора. Так нельзя. Виктор должен принять помощь. Ему можно найти хорошую работу. Он, мэр, сам сделает для этого всё возможное. Но Виктор не должен отказываться от помощи.
Виктору настолько не было стыдно, что если бы мэр сейчас предложил накормить, не раздумывая, согласился бы. Стал бы есть прямо тут, на дороге.
И другое, странное чувство поразило его, пока мэр говорил. Меж ними была пропасть. Бросающаяся в глаза любому смотрящему со стороны. Беспощадно неоспоримая для Виктора. Но оттого ли, что скорлупа треснула, запретные воспоминания вырвались наружу, Виктор видел теперь – прошлое не исчезло совсем. Оно их объединяло.
Мэр был шикарно одет, в широком галстуке сверкал бриллиант булавки, рубашка с коротким рукавом, несмотря на жару, сияла белизной, от мэра за версту несло дорогой туалетной водой, на руках его был маникюр, а прилипшая к коже пыль, уличный загар, переношенная и потрёпанная одежонка Виктора поставили на нём клеймо отщепенца. Вдобавок, Виктор был невысок, субтилен, поджар, а мэр был рослым и широкоплечим. Но одинаково гладко выбритые щеки, ухоженные усы, прямая, несгибаемая осанка, скупая жестикуляция, ещё что-то, что нельзя было ухватить сразу и невозможно было передать словами, объединяло их. Прошлое не исчезло! Они оба были флотскими. Были, хотя Того флота не стало, хотя они оба давно расстались со флотом, и пути их далеко разошлись. Даже его обращение, по имени-отчеству, звучало, как из прежней жизни, так было принято у офицеров флота, меж равными и близкими без всяких званий! Прошлое не исчезает! Прежняя жизнь Виктора была на самом деле! Не почудилась!!! Ощущая это отчетливо, помнить, кем стал теперь, было куда как более тяжко, но не было никакой потребности прятаться от правды в скорлупу. Это было и бесполезно, скорлупа разлетелась на кусочки и больше не защищала его. Он остро чувствовал боль, которую долгие годы старательно пытался не замечать. Но странно – вместе болью и другие чувства оживали в нём! И воскресшие, недавно запретные воспоминания, не сплющивали тоской по навеки утраченному, грозя раздавить в нём последние остатки гордости и стойкости, превратить в такого, как Феня, а – наоборот, – казалось? – смягчали боль. И он дышал – или так только чудилось? – будто дышал… свободой.
Виктор почувствовал тепло к мэру. К своему, к флотскому, к товарищу. Они никогда не были близки, даже хорошо знакомы, никогда не плавали вместе, сталкивались только на берегу, изредка по службе, пару раз в Доме Офицера. Но он был одним из тех, кто открыто, прилюдно, вслух – об этом рассказывал Никитич – не одобрял, как поступили с Виктором. Ушёл вскоре после того, как Виктора осудили и лишили звания, ушёл сам, не дожидаясь сокращений, не захотев служить на флоте, который непонятно кому принадлежал, когда то присягать, то не присягать Украине приказы выходили. Память, правда, исподволь выносила и то, что по слухам, циркулирующим в городе, он поднял свой бизнес, продавая за границу, как металл, детали поспешно списанных боевых кораблей, что был тесно связан с бандитами, обложившими данью курортные доходы в округе. Но не это было сейчас важно! Виктору было абсолютно безразлично всё, что с мэром случилось потом, имело значение лишь, что он был частью прошлого, был сейчас живым свидетельством – прошлое не умерло, а просвечивало даже в нём, через его, полную достатка и лоска, оболочку. А что при этом всё-таки стал – Мэром! – было приятно.
Виктор почувствовал: он – свой, наперекор очевидной пропасти меж ними. От своего было радостно принять помощь! А ведь много лет Виктор пытался прятаться от тех, кто знал его раньше, и самым тщательным образом, от тех, с кем вместе служил. И с непоколебимым упрямством отвергал любые сочувствие и поддержку.
Сейчас с благодарностью принял голубоватую бумажку с тиснением, которую мэр вырвал из блокнота с кожаной обложкой. На бумажке было написано, куда и когда прийти, к кому обратиться, и даже – телефон мэра. Виктор едва удержался, хотелось прижать бумажку к сердцу. Мэр смотрел удивлённо. Видно, его несговорчивость и попытки сбежать от старых знакомых были хорошо известны.
Мэр снова протянул руку, и Виктор пожал её. Затем мэр повернулся и пошёл к своему мерседесу. Держиморды с облегчением вздохнули, тот, что был слегка поменьше, радостно побежал открывать дверцу. Прохожие, как один, остановились, уставились на Виктора и на отъезжающий мерседес. Снова стало неуютно. Виктор поспешил в спасительный переулок. Появилось желание бросить бумажку на не выщербленный асфальт и прятаться в скорлупу, в которой ничего не трогает. Но, собравшись с силами, засунул листок глубоко в карман, единственный целый в этих штанах, сам латал в нем мелкие дырки.
Виктор почти бежал, снова наверх, в гору. Выше, на изгибах кривого переулка, ветер был сильней. Мощный и плотный, обволакивающий тело, он напоминал далёкий ветер в Баренцовом море. Восемнадцатилетний мальчишка тогда тоже съёжился, забился в скорлупу от гнёта старослужащих, старшин и мичмана, который совсем загонял в первом плаваньи. От тоски по маме и отцу. От мучительной тоски по Галине, которая любила другого. Вот отчего просыпался по ночам, и болело сердце, не от испытаний, унижений и постоянно сдавленного, замкнутого пространства. Он как мог тщательно выдраил офицерские каюты и кают-компанию, и с тоскливой готовностью ждал новой головомойки от мичмана. Но вдруг появился замполит, улыбнулся его чести и рапорту, спросил, правда ли, первый раз на рейде, приказал подняться наверх и смотреть. Подлодка всплыла, и медленно шла по открытому морю. Виктор думал сперва о том, что надо быть мужиком и забыть Галину, и о том, что мичман рассвирепеет, узнав, что он столько стоял без дела. Но ветер ударил свежими каплями моря прямо в лицо, а потом обдул их ласково, и огромный купол неба над головой и плоскость моря, одинаковая, куда ни кинь взгляд, поглотили его, и сбросили тоску и тяжесть. Никогда Виктор не видел ничего подобного! Бесконечное пространство, зелёно-серое, стёртый, затуманенный горизонт и ветер, могучий, полный запаха моря. Тогда понял, что выдержит. Сможет. Понял, что хочет служить только на флоте. Смешно, что мечтал об авиации, а когда определили во флот, в Баренцово из Западной Украины, лишь старался принять три года вместо двух, как подобает. Ему сыну фронтовика, ушедшего в армию в семнадцать лет, а затем двадцать семь лет тянувшего лямку по разным гарнизонам, полагалось служить там, куда направят, столько, сколько положено. А в тот миг понял, какое счастье, что попал сюда. Пусть его, как сидорову козу, гоняет мичман. Пусть старшие издеваются над его старательностью. Он выдержит. И будет офицером только на флоте. Он тогда даже поверил, что Галина будет его.
Странно, ведь всё сбылось.
Сбылось!
Виктор нырнул в узкий проход между заборами. Кустарник впился в одежду. Продирался, как мог аккуратнее, но не смог избежать нескольких царапин, из-за ежевики, которая была в самом конце. Стремился сюда из-за неё и одичавших слив. Этот островок под горой был ничей. Виктор никогда не крал. Может быть, пока не дошёл до этого? Он стал есть ничейные ежевику и сливы, кислые, без того было кисло во рту. Но в животе урчало, а немного посидев, прислонившись к забору, почувствовал прилив сил.
Надо было возвращаться к вокзалу, чтобы заработать что-то ещё. Извиваясь, как уж, чтобы избежать колючек ежевики, понял, что не пойдёт сегодня туда. Лучше поднимется за город, к черте леса, там немного отдохнёт, может, поспит, переждёт жару. Снова идти, двигаться. И отдаться воспоминаниям!
Вспоминалась весна в Карпатах.
Меньше, чем за девять лет, он сменил пять школ. Виктор сам потом прослужил почти тринадцать лет на одном месте, и недоумевал, почему отца перебрасывали туда-сюда так часто. Он учился в Хабаровском крае, в Северном Казахстане, на Алтае, под Новгородом, в Воронеже, где ему так и не было суждено закончить девятый класс. Каждый раз так трудно было привыкать к ребятам, так хотел подружиться с ними, не сразу это удавалось, был чужим, тосковал по прежнему классу, где оставил своих, а когда, наконец, и эти становились своими, надо было уезжать, расставаться. В Воронеже они жили почти четыре года, даже мама привыкла к Воронежу, нашла себе работу в ателье, и надеялась, остаться на прежнем месте, когда отец выйдет на пенсию. Но отец то ли недостаточно хлопотал, то ли хлопоты не возымели действия. И так за пять месяцев фронта, ранение и госпиталя, за двадцать семь лет безупречной службы, солдатской, прапорщицкой, офицерской ему и подполковника-то дали только в последний год, почти перед самым увольнением, сам даже думал так майором и закончит, а мать говорила, не был бы фронтовиком, и перед пенсией не дали бы. Вот и квартиру они получили на Западной Украине, у отца был выбор, но небольшой, не Воронеж, он остановился на месте, близком от того, где встретил свой последний бой и получил ранение.

