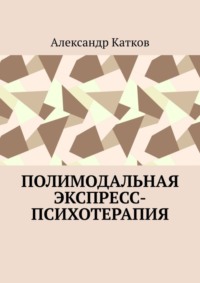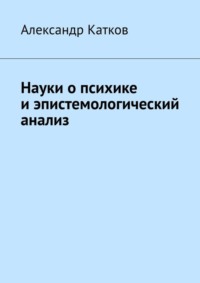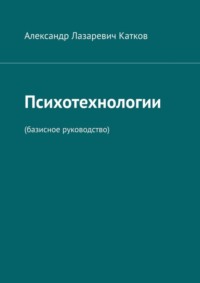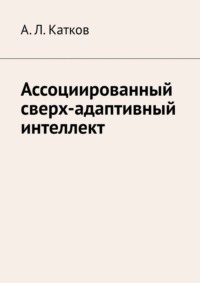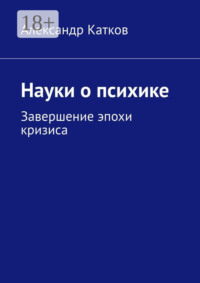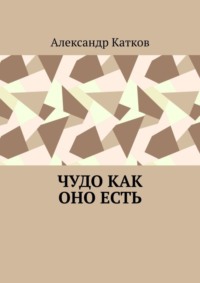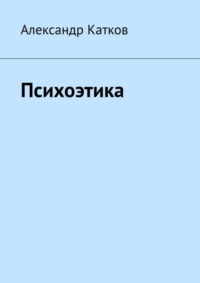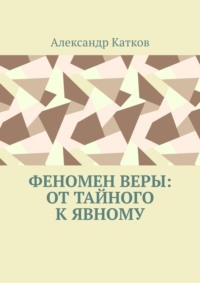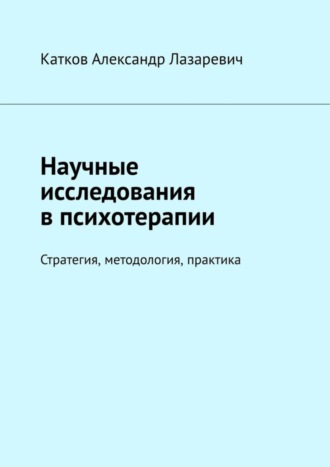
Полная версия
Научные исследования в психотерапии. Стратегия, методология, практика
: манифестация феномена психопластичности прослеживается в виде сброса напряжения, которое в явной или неявной форме отмечается у клиентов психотерапевтического процесса («выдох» напряжения), после чего в статусе клиентов отмечается общее оживление, они производят впечатление «проснувшихся», существенно возрастает речевая активность, склонность к проявлению инициативы. В частности, возросший уровень активности проявляется в оживленной моторике, пластичных и дифференцированных пантомимических реакциях. Клиенты по собственной инициативе сокращают дистанцию с терапевтом. С какого-то момента можно отметить и такое специфическое пантомимическое и моторное взаимодействие клиента с терапевтом, которое обозначается как «общий танец». По параметру общей активности
: сброс телесного напряжения может сопровождаться так называемой вегетативной волной – кратковременным учащением дыхания, покраснением кожных покровов, появлением особого блеска в глазах и проч. Сопутствующие вегетативные реакции
: с манифестацией феномена психопластичности у клиентов констатируется весьма драматическое изменение вектора эмоциональных реакций – от типичных на старте психотерапевтической коммуникации негативных эмоциональных проявлений (неопределенно-тревожный или напряженно-настороженый аффект, переживание общего эмоционального дискомфорта, характерные для состояния деморализации и доминирующей, защитно-конфронтационной адаптивной стратегии) – на оживленно-приподнятый, в целом позитивный аффект, связанный с появлением определенности и надежды на благополучное разрешение проблемной ситуации, характерный для синергетической адаптационной стратегии. Такое общее эмоциональное оживление сопровождается дифференцированными, пластичными и адекватными эмоциональными реакциями на происходящее, что в корне отличается от состояния монотонной «зачарованности» или «загруженности», связанных со снижением уровня бодрствования клиентов. По параметру эмоциональных реакций
манифестацияфеномена психопластичности, как правило, проявляется отчетливым ростом интеллектуальной активности и продуктивности пациентов/клиентов. Причем в данном случае речь идет об интеллектуальных процессах в целом, а не только о процессах креативного синтеза, имеющих отношение к психотерапевтической динамике. По параметру интеллектуальной продуктивности:
: в содержательных характеристиках психотерапевтической коммуникации феномен психопластичности представлен и такими достаточно специфическими проявлениями, как речевые, моторные и более сложные поведенческие «синхронизмы» терапевта и клиента – в частности ускоренным текстовым (я хорошо понимаю то, что ты мне говоришь), контекстовым (я хорошо понимаю то, что ты мне хочешь сказать), опережающим (ты только собрался начать фразу, я уже знаю, что ты мне скажешь) пониманием в паре клиент-психотерапевт. Такой авторитетный специалист, как Карл Роджерс, описывал свои ощущения в ходе подобного терапевтического взаимодействия следующим образом: «… в эти моменты кажется, что мой внутренний мир вырывается наружу и соприкасается с внутренним миром другого. Наши взаимоотношения перерастают сами себя и становятся частью чего-то большого. Появляется глубинный рост, и исцеление, и энергия» (К. Роджерс, 1951). Особенности проявлений коммуникативной активности
, с уверенностью можно говорить о следующих характеристиках рассматриваемого феномена: По параметру более сложных и собственно пластических проявлений психической активности, имеющих особое значение в психотерапевтической коммуникации
• в условиях манифестации феномена психопластичности прослеживается возможность ускоренной терапевтической трансформации негативно-эмоциональных, антиресурсных контекстов или реальных обстоятельств какой-либо настоящей, а с учетом потенциала временной пластики – пережитой в прошлом и ожидаемой в будущем проблемной ситуации в позитивно-эмоциональный ресурсный контекст при сохранении событийного строя происходящего. Такая возможность реализуется за счет акцентирования или усиления концентрации каких-либо значимых аспектов, удаления неприятных или травмирующих «шумовых» моментов, выхода за пределы проблемной ситуации с одновременным умалением степени ее значимости – т. е. достижения ресурсной трансценденции. Речь здесь может идти, например, о том, что травматическую память, негативное восприятие настоящего и ожидание будущего – в режиме психопластического «наводнения» и в самые сжатые сроки – можно перевести в полярно противоположные терапевтические контексты с одновременным форсированным развитием первичного или даже устойчивого ресурсного состояния; пластика контекстов и обстоятельств:
• в условиях синергетической активности внесознательных инстанций существенно облегчается возможность ретроспективных и проспективных перемещений во времени, достижения возрастной регрессии и прогрессии, эффективной проекции планируемых результатов в будущее (здесь очень важно отметить, что такой результат достигается без использования каких-либо специальных технических приемов, индуцирующих трансовое состояние пациентов/клиентов). За счет механизмов темпоральной пластики могут эффективно решаться проблемы компенсации деструктивного варианта прохождения жизненных кризисов, выстраиваться конструктивные жизненные сценарии с их устойчивой проекцией в будущее, формироваться ресурсная метапозиция и другие характеристики устойчивого ресурсного состояния клиента; пластика времени:
• : манифестация феномена психопластичности, по нашим наблюдениям, способствует актуализации особой предрасположенности Я-феномена к функционированию в гиперпластическом режиме (что, с нашей точки зрения, обосновывается самой возможностью генерации и Я-феномена – как высокоинтегрированной, синтетической системы, формируемой на основе всех видов памяти и пережитого субъективного опыта – лишь в условиях темпоральной гиперпластики). Таким образом, феномен психопластичности существенно облегчает возможность ресурсной самотрансценденции, терапевтической диссоциации личностного ядра субъекта, вовлеченного в психотерапевтический процесс, по отношению к своим множественным компонентам: Я-функциям (Я-памяти, Я-мышлению, Я-поведению и проч.); Я-свойствам (например, идентифицированным качественным характеристикам психического здоровья); Я-статусам (Я-ребенку, Я-подростку, Я-взрослому, Я-родителю, Я-партнеру, Я-профессионалу и проч.). Соответственно, вероятность эффективной терапевтической трансформации именно тех диссоциированных компонентов психической активности субъекта, которые и являлись причиной появления адаптационных расстройств, существенно возрастает; пластика Я
• : речь здесь идет в том числе о персонификации бессознательного в образе любых ресурсных воплощений, имеющих отношение к процессу психотерапии (например, воплощений в образе «внутреннего целителя» или «внутреннего мудреца»); о возможности достраивания любых актуальных аспектов реальности в духе «дополняемой реальности» при работе в группе клиентов с резко ославленными или утраченными отдельными физиологическими функциями и проч. пластика внесознательных инстанций психического (не-Я, или ОНО)
Функциональные характеристики феномена психопластичности
Вышеприведенные содержательные характеристики феномена психопластичности так или иначе указывают на важнейшую ресурсную функцию данного состояния, имеющую прямое отношение к обеспечению основного психотерапевтического эффекта – возможности достижения существенных конструктивных изменений в ограниченные периоды времени.
Такого рода результирующая функция феномена психопластичности раскладывается на следующие важные составляющие, имеющие прямое отношение к ключевым позициям эффективной стратегии психотерапевтического процесса:
• эффективное противодействие антиресурсному состоянию деморализации у клиентов (Д. Франк, 1974), препятствующему конструктивным терапевтическим изменениям;
• эффективное упреждение оппозиционных, по отношению к терапевтическим изменениям, реакций сопротивления, неадекватной психологической защиты у клиентов;
• протекция ускоренной реализации базисной психотерапевтической триады (диссоциация проблемных фрагментов психической активности клиентов от личностного «ядра» – их терапевтическая трансформация в адаптирующие формы психической активности – ассоциация в обновленную ресурсную целостность психического клиентов);
• протекция ускоренного прохождения терапевтической тетрады К. Гравэ (1997): прояснение и коррекция значений проблемной ситуации – актуализация подлинной проблемы – мобилизация ресурсов – компетенция в совладании;
• ускоренный запуск универсального алгоритма конструктивного решения проблемной ситуации (А. Л. Катков, 2011);
• обеспечение терапевтического перехода от деструктивного к конструктивному варианту прохождения этапов и фаз адаптивно-креативного цикла – стержневого концепта второго матричного уровня общей теории психотерапии;
• обеспечение наиболее благоприятных условий форсированного развития качественных характеристик психического здоровья (т. е. универсальных мишеней психотерапии), способствующих конструктивной адаптации и устойчивости клиентов к агрессивному влиянию среды.
Приведенный перечень детализированных функциональных характеристик феномена психопластичности выстроен с учетом их «восходящей» сложности и смещения фокуса психотерапевтического процесса от актуальных к универсальным мишеням, что обычно и наблюдается в реальной психотерапевтической практике. Необходимые дополнительные комментарии, проясняющие взаимосвязи различных функциональных аспектов феномена психопластичности с используемыми макротехнологическими, метатехнологическими и структурно-технологическими подходами, даются в следующих подразделах.
При всем том стержневой функцией феномена психопластичности является обеспечение высокой степени адаптивно-креативной активности основных инстанций психики клиента. Такого рода активность проявляется в том числе в своеобразной «ре-анимации», оживлении и других акцентированных признаках, свидетельствующих о выходе клиента из антиресурсного состояния «деморализующего гипноза» проблемных обстоятельств, в ходе чего осознаваемая личность клиента отнюдь не «уводится» на периферию сознания, а наоборот, является активном со-трудником, со-участником процесса терапевтических изменений.
В сочетании с проявлениями тотальной гиперпластики такая комбинация является наиболее выигрышной как для эффективного решения актуальных для клиента проблем, так и в плане продвижения к универсальным целям психотерапевтического процесса. И здесь мы особо хотели бы подчеркнуть важность вот этого последнего тезиса, поскольку в психотерапевтических дискурсах, не говоря уже о наиболее распространенной психотерапевтической практике, проблема адекватной синергии в работе с актуальными и универсальными мишенями профессиональной психотерапии, на наш взгляд, не находит удовлетворительного решения.
С учетом все сказанного можно определенно утверждать, чтопо всем приведенным в настоящем разделе параметрам отфрагментарных представлений или описаний каких-либо отдельных характеристик, относимых к состоянию клиента, статусу терапевта, процессу взаимодействия между клиентом и терапевтом, какому-либо «общему фактору» психотерапии или даже сумме всех этих характеристик и факторов. феномен психопластичности существенно отличается
Психотехнический анализ феномена психопластичности и его компонентов
На основании идентификации генеративных (общих), содержательных и функциональных характеристик феномена психопластичности, в полном соответствии с принципами доказательной исследовательской практики нами был сформирован перечень адекватных «весовых» признаков исследуемого феномена – универсальных единиц психотехнического анализа. Данный перечень в итоге включал: блок технологических единиц анализа, имеющих непосредственное отношение к генерации феномена психопластичности и определяемых как стартовые критерии эффективности психотерапевтического процесса; блок эмерджентных функционально-содержательных единиц анализа, имеющих непосредственное отношение к скорости генерации и усвоения клиентами терапевтической информации и последующей динамики конструктивных изменений. Последние характеристики определись нами как промежуточные критерии эффективности психотерапевтического процесса. Итоговые универсальные единицы психотехнического анализа оценивались по показателям адекватности и полноты, которые выводились на основании подробных и дифференцированных характеристик учитываемых в данном случае признаков.
Следует иметь в виду, что процедура проведения комплексного психотехнического анализа и последующей экспертной оценки эффективности реализуемой психотерапевтической практики предусматривала возможность количественной оценки универсальных единиц, определяемых по каждому коммуникативному уровню терапевтического взаимодействия (см. содержание следующего раздела), а также возможность количественной оценки конечных индикаторов эффективности, определяемых по так называемым объективным параметрам терапевтической динамики. Итоговые выводы формулировались на основании процедуры корректного статико-математического анализа, в ходе чего определялись весовые соотношения основных психотехнических фрагментов в плане обеспечения итогового результата и данные об эффективности используемого психотерапевтического метода в целом.
Аргументированное заключение комплексного психотехнического анализа содержало ответ на вопрос о том, за счет каких именно технологических компонентов анализируемого психотехнического процесса был достигнут зафиксированный результат, и какой именно технологический дефицит послужил препятствием к достижению максимально возможного результата.
Таким образом по итогам нашего исследования в максимально корректной форме была определена статистически значимая и более чем существенная роль феномена психопластичности, его отдельных компонентов в обеспечении промежуточных и конечных результатов психотерапевтического процесса в исследуемых группах.
Концепция трехуровневой психотерапевтической коммуникации
Общая информация
Проведенное нами комплексное исследование с определением «весового вклада» отдельных компонентов психотерапевтического процесса в итоговый результат позволило идентифицировать и систематизировать технологический сектор обеспечения главного и наиболее востребованного эффекта проводимой психотерапии – возможности достижения максимума конструктивных, устойчивых и продолжающихся терапевтических изменений у клиентов за ограниченный период времени.
Разработанные на базе такого комплексного исследования концепция и модель трёхуровневой психотерапевтической коммуникации в полной мере раскрывают терапевтический потенциал феномена психопластичности. В частности, разработанная модель адекватно проясняет технологические механизмы, обеспечивающие: манифестацию необходимых пластических эффектов еще на старте терапевтического процесса; интенсивную динамику терапевтических изменений в продолжении психотерапевтической сессии и всего активного цикла; устойчивую динамику или даже супердинамику конструктивных изменений в посттерапевтический период.
В соответствии с данной концепцией, манифестация, развитие и полноценное использование функционального ресурса стержневого феномена психопластичности обеспечивается взаимодействием трех дифференцируемых уровней психотерапевтической коммуникации и процесса психотерапии в целом – что, с нашей точки зрения, существенно дополняет наиболее распространенные объяснительные модели взаимодействия в системе «клиент-психотерапевт», так или иначе присутствующие в теоретических построениях направлений и методов профессиональной психотерапии, и конкретизирует механизмы обеспечения эффективности психотерапевтического процесса. макротехнологического, метатехнологического и структурно-технологического,
Данная концепция и модель отчетливо демонстрируют, каким именно образом вот эти ключевые аспекты психотерапевтического взаимодействия обогащают и усиливают конструктивное функциональное содержание дифференцируемых этапов и фаз адаптивно-креативного цикла у гипотетических клиентов, что в итоге и обеспечивает ускоренную терапевтическую трансформацию очевидно деструктивных или даже «усредненных» вариантов прохождения данного универсального цикла в искомый конструктивный вариант и далее – утверждение и «укоренение» этого адаптивного варианта в «информационной генетике» гипотетического клиента.
Рассматриваемые здесь концепция и модель, следовательно, являются универсальным теоретическим инструментом существенного повышения эффективности проводимой психотерапии, убедительные свидетельства чего мы получили в корректных исследовательских проектах (см. Приложение 1).
Макротехнологический уровень психотерапевтической коммуникации: определение и функциональное содержание
Представляемый здесь уровень психотерапевтической коммуникации в самом первом приближении можно рассматривать как некую «дорожную карту» профессиональной психотерапии, позволяющую прокладывать наиболее удобные, приемлемые и понятные – для гипотетического клиента и специалиста-психотерапевта – маршруты продвижения к желаемой цели психотерапевтического процесса.
Под макротехнологическим уровнем психотерапевтической коммуникации мы понимаем проработанную технологию выстраивания оптимальной структуры психотерапевтического процесса, которая:
• к функциональному содержанию дифференцируемых этапов и фаз адаптивно-креативного цикла; адресуется
• все наиболее важные структурные компоненты и стратегические варианты выстраивания психотерапевтического процесса с их функциональными целями и задачами; представляет и обосновывает
• таким образом, дифференцированное, функционально оправданное и в силу этого наиболее эффективное взаимодействие используемого технологического потенциала на определенных этапах психотерапевтического процесса; обеспечивает,
• в итоге достижению планируемых промежуточных и конечных результатов психотерапевтического процесса. способствует
Методологической основой рассматриваемого коммуникативного уровня, как понятно из всего сказанного, является разработанная модель адаптивно-креативного цикла, на основании которой, собственно, и выводится основной вектор психотерапевтических усилий на каждом выделяемом структурном этапе психотерапевтического процесса и стратегическое целеполагание в целом. И здесь же уместно напомнить о том, что функциональная модель адаптивно-креативного цикла в существенной степени ассимилирует универсальные компоненты, стратегические схемы и механизмы психотерапевтического процесса, разработанные известными специалистами-психотерапевтами (см. описание концепта адаптивно-креативного цикла в предыдущем разделе).
В содержательном плане макротехнологический коммуникативный уровень представлен нижеследующими стратегиями построения психотерапевтического процесса: сфокусированной на особенностях построения и прохождения этапов отдельной психотерапевтической сессии; охватывающей полный психотерапевтический цикл; рассматривающей варианты «стыковки» психотерапии с другими помогающими и развивающими практиками (консультативными, тренинговыми и проч.). кросс-секционной, лонгитюдной, когерентной,
В представленном перечне безусловно приоритетными являются стратегии психотерапии, определяющие универсальные и специальные терапевтические цели, основные этапы и механизмы их достижения, а также временной формат планируемого психотерапевтического цикла. Кросс-секционные и когерентные стратегии выстраиваются в соответствии с основополагающей лонгитюдной стратегией, и в этом смысле носят прикладной характер. лонгитюдные
Последний тезис выводится из такого установленного факта, что лонгитюдные макротехнологические стратегии, в принципе способные охватывать весь объем гипотетического целеполагания в психотерапии, являются в то же время весьма гибким инструментом планирования психотерапевтического процесса. И в зависимости от формируемых приоритетов целеполагания, фокусирования на соответствующих актуальных или универсальных мишенях, лонгитюдные стратегии могут предусматривать множество временных форматов проводимой психотерапии. Например, форматы: экстренной психотерапевтической помощи (1 сессия); экспресс-психотерапии (1—3 сессии); краткосрочной психотерапии (5—10 сессий); среднесрочной психотерапии (11—25 сессий); долгосрочной психотерапии (свыше 25 сессий), а также специальные форматы психотерапевтического сопровождения клиентов после завершения активной терапевтической фазы, не предусматривающие каких-либо отчетливых временных ограничений: формат клубных встреч, ориентированных на ресурсную поддержку клиента; дистанционный формат поддерживающей референтной группы; формат самопсихотерапии как практики эффективной посттерапевтической самоорганизации клиента.
Каждый из таких форматов предполагает, во-первых, наличие обоснованной специфики выстраивания этапов психотерапевтической сессии – т. е. кросс-секционной стратегии.
Так, формат экстренной психотерапевтической помощи может ограничиться лишь этапом установления терапевтического контакта и выполнением главной метатехнологической задачи данного этапа – выводом клиента из состояния частичной или тотальной деморализации и переводом в первичное ресурсное состояние. Именно такое продвижение клиента в первичный ресурсный статус препятствует его «застреванию» на кризисном этапе адаптивно-креативного цикла со всеми выводимыми отсюда последствиями. В то же время формат экспресс-психотерапии предполагает акцентированную реализацию полного набора дифференцируемых этапов психотерапевтической сессии, без чего невозможно говорить о самодостаточности данного формата профессиональной работы с приоритетными для экспресс-психотерапии актуальными мишенями. Для среднесрочных и долгосрочных форматов проводимой психотерапии, ориентированных в большей степени на работу с универсальными мишенями, оформление этапов психотерапевтической сессии – особенно трех первых и последнего – также имеет свою аргументированную специфику.
Во-вторых, различные временные форматы проводимой психотерапии предполагают наличие определенных предпочтений в сопровождении клиента после завершения активного цикла, т. е. вариантов построения когерентной макротехнологической стратегии. Так, например, формат экстренной психотерапевтической помощи, оказываемой клиентам с признаками острого кризисного или стрессового состояния, предполагает продолжение психотерапевтического процесса, либо консультативного сопровождения. Наиболее предпочтительным вариантом продолжения работы после завершения экспресс-психотерапии является мотивированное участие клиента в специальной программе психотерапевтических тренингов, нацеленных на форсированное развитие качественных характеристик – дифференцированных свойств, состояний, процессов – психического здоровья и, соответственно, высоких уровней устойчивости к агрессивному воздействию среды. Для среднесрочных и долгосрочных форматов проводимой психотерапии наиболее адекватным вариантом посттерапевтического сопровождения является дистанционная либо «клубная» ресурсная поддержка. Что же касается такого универсального способа ресурсной поддержки клиента, как эффективная, предварительно проработанная самопсихотерапия, то данный вариант рекомендуется для всех видов и форм проводимой психотерапии.
Разумеется, такого рода особенности и предпочтения в выстраивании соответствующих кросс-секционной и когерентной макротехнологических стратегий – в зависимости от избранной лонгитюдной стратегии – должны отражаться в содержании профессиональных стандартов и протоколов используемых психотерапевтических методов.
Что же касается основных компонентов рассматриваемого уровня психотерапевтической коммуникации в системе промежуточных индикаторов, то такими индикаторами здесь являются критерии адекватности и полноты используемых макротехнологических стратегий. Последние, в свою очередь, являются основными учитываемыми единицами в базисной методологии психотехнического и комплексного анализа эффективности психотерапевтического процесса. Наиболее значимыми критериями эффективности в системе конечных индикаторов являются скорость и качество прохождения гипотетическим клиентом адаптивно-креативного цикла в целом, а при наличии такой необходимости – отдельных этапов и фаз данного цикла. оценки эффективности
С учетом сказанного, в качестве настоящего коммуникативного уровня (как точки приложения используемых здесь основных стратегических технологий) мы предлагаем рассматривать динамику развития адаптивной ситуации – от обычного для гипотетического клиента деструктивного или даже «усредненного» варианта прохождения адаптивно-креативного цикла, к конструктивному варианту, но также, при соответствующем запросе, – динамику от нормативного варианта прохождения адаптивно-креативного цикла (такой вариант не предполагает наличия у клиента каких-либо признаков адаптационного кризиса) к сверхнормативному с искомым расширением адаптационных возможностей у заинтересованного субъекта. При этом понятно, что выведение данной главной мишени обосновано теоретическими концептами второго матричного уровня общей теории психотерапии. И что настоящая мишень в полном соответствии с принципами доказательной исследовательской практики адекватно представлена в системе промежуточных и конечных индикаторов эффективности процесса психотерапии. главной мишени