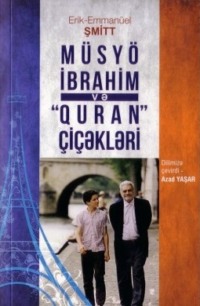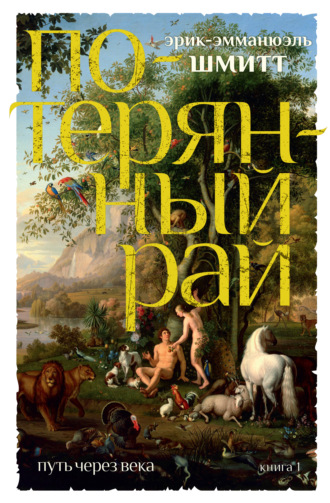
Полная версия
Потерянный рай
– Мне очень жаль, Ноам. Но я ничем не могу помочь.
– О чем ты?
– Нура… Мне казалось…
– Что?
– Я был уверен, что вы с Нурой… то есть ты…
Я напрягся, сжал кулаки и процедил сквозь зубы:
– Это не важно!
Тибор пробормотал:
– Я думал, что ты хочешь соединиться с Нурой.
– У меня есть жена.
– У твоего отца тоже есть, но это его не останавливает.
– Мой отец – это мой отец. Вождь – это вождь.
Тибор внимательно на меня посмотрел и сказал:
– Прости меня, Ноам. Я вечно усложняю жизнь… Ты гораздо разумней меня.
Я хмуро кивнул. Мне хотелось, чтобы он умилился моей покорности, чтобы вся деревня восхваляла мою угодливость. Я повинуюсь отцу, чего бы он ни потребовал. Если я облеку свою горечь благородным самоотречением, если украшу ее добронравием, я сохраню лицо, останусь прежним Ноамом, избегу унижения и отчаяния. Иначе как мне вынести невыносимое?
Тибор стиснул мне запястье:
– Ты проявляешь великую мудрость, Ноам.
Да-да, великую мудрость! Я купался в своей добродетели, наслаждался своим героизмом, упивался своей жертвой. Величайшая мудрость…
Но другая часть моего «я» противилась. Я ненавидел отца за то, что он взял в жены Нуру, ненавидел Нуру за ее согласие, ненавидел Тибора за его покладистость, ненавидел Маму за ее покорность и себя ненавидел – за преданность отцу, за смирение, за малодушие, за проигрыш.
Мудрость… Да какая мудрость? Я проклинал свою мудрость. Она сводила меня с ума.
Я молча шел рядом с Тибором, стараясь успокоиться. Потом пересказал ему свой сон и попросил объяснить.
– А медведь тебе снится впервые?
– Нет.
– В жизни ты встречался с медведем?
– Часто. Видел его издалека. Не убегал, а любовался им… Медведь восхищает меня. Мне никогда не приходило в голову, что он может напасть. Когда я был маленьким, Панноам бранил меня за это безрассудство.
– Объяснение очевидно: медведь – твое тотемное животное.
– Вовсе нет! Тотем нашей семьи – волк.
– Отцовский тотем, но не твой.
– Но у меня не может быть другого тотема!
Тибор остановился и крепко стиснул мое плечо:
– Не думай о себе лишь как о сыне своего отца. Ты – отдельный человек.
– Что это значит?
– Ноам и Панноам не одно и то же.
– Скажи яснее.
– Ноам – это не часть Панноама. Не кусок Панноама. Имя, данное тебе отцом, стало для тебя ловушкой.
– Ловушкой?
Я совершенно не понимал, на что Тибор намекает. Он вздохнул и сменил тему разговора:
– Если твой тотем – сильный одинокий медведь, ты обладаешь его свойствами[7]. Силу ты уже показал, вся деревня тому свидетелем: бегаешь ты быстро, плаваешь отлично, целишься хорошо, да и дерешься великолепно.
– Но одиночество? Разве я одинокий?
– А это для тебя новость. Медведь пришел к тебе ночью сообщить об этом – значит теперь тебе полезно это знать…
Я поник. Ведь верно, брак Нуры и моего отца так меня печалил, что делал одиноким.
Я посмотрел в глаза Тибору:
– Но разве можно страдать от одиночества среди своих?
Он задумчиво проговорил:
– Таков удел человека, который думает сам.
По его затуманившемуся взгляду, по дрожи его голоса я понял, что он говорил не только обо мне, но и о себе.
Как он отличался от отца! Панноам состоял из решительности, распоряжений, поступков, а Тибору было свойственно задавать вопросы. В этот миг я почувствовал наше сходство.
– Твое животное тоже медведь, Тибор?
Он улыбнулся:
– Мое животное – сова, Ноам.
– Но ведь ты не бодрствуешь ночью!
– Сова причастна другим мирам, миру невидимого, миру Богов, Духов и Мертвых. Подобно сове, я ищу скрытое от многих, я снимаю покров видимого.
– Хороший у тебя тотем – сова! Он делает тебя счастливым, не то что одинокий медведь…
– Разве можно быть счастливым, лишившись иллюзий?
На этих словах Тибора мы расстались.
Я спустился к Озеру. Небо светлело. Деревня скрылась из виду и являлась мне своими шумами: мычаньем, квохтаньем, блеяньем, а еще звуками, производимыми теской камня, забиванием свай, заточкой кремневых орудий, мукомольем, растиранием гончарной глины, глухим потрескиванием дубимых кож, а еще указаниями, которыми перебрасывались ремесленники, детскими криками и женской болтовней.
Я дошел до главной улицы и направился к поляне, на которой мой отец вершил суд. Панноам сидел под Липой с представителями двух семей и разбирал дело о похищенной дичи.
Я смотрел на него со стороны, и меня мучили противоречивые чувства: я испытывал к нему свою обычную любовь, но руки чесались как следует ему всыпать. Мне виделся то прекрасный цельный человек, мягкий и милосердный, то калека со злобной гримасой. Где же истина? Как избавиться от дурного отца и оставить себе только хорошего?
Появилась Нура с высоко поднятой головой; заметила меня, убедилась, что Панноам еще занят, и устремилась ко мне. Ее нетерпеливые желто-зеленые глаза сияли от радости.
– Мои поздравления, Ноам!
Змеиный укус был бы мне приятней.
– О чем ты?
– Поздравляю!
Она лучезарно улыбалась, искренне и восхищенно. Я нахмурился, и она добавила:
– Какая добрая весть для вас с Миной!
Я был взбешен. Неужели она думает, что ее брак с моим отцом для меня добрая весть? Ну, для Мины безусловно… Но для меня?
Я смерил ее ледяным взглядом:
– Да как ты смеешь!
– Что ты хочешь сказать?
– Насмехаться надо мной!
Она не привыкла к моей резкости и забормотала:
– Ну как же… Ноам… не важно, кто… ты всегда говорил, что…
– Нура! Мне омерзительна эта ситуация! Не надо усугублять ее и смеяться надо мной. Даже если это тебя забавляет.
Она побледнела, надула губы и выпалила:
– Я не забавляюсь и не смеюсь! Я радуюсь, что Мина забеременела!
Я застыл с открытым ртом.
Она уточнила, думая, что я не расслышал:
– Я радуюсь, что вы ждете ребенка.
Видя мое удивление, она выпучила глаза, фыркнула, прыснула со смеху и прикрыла рот рукой:
– Как? Неужели ты не знаешь? – Она рассмеялась. – Ты не заметил?
Я покачал головой. Она продолжала смеяться от души, не скрывая веселости и оглядываясь по сторонам в надежде призвать кого-нибудь в свидетели.
– Да вся деревня знает, Ноам! У Мины уже месяца три как заметен животик… Ах, ты не больно внимательно смотришь на свою жену!
– Да я вообще никак на нее не смотрю!
Мой возглас прозвенел посреди деревни. По счастью, поблизости никого не было; только отец повернул в мою сторону голову, но разделявшее нас расстояние помешало ему расслышать мои слова.
Мне стало стыдно – не столько за сказанное, сколько за мою несдержанность.
Нура смотрела на меня. Моя горячность сбила ее с шутливого тона. Некоторое время мы молчали. Потом она кивнула на большой пень:
– Давай сядем.
Мы сели рядом; перед нами уходила в бесконечность озерная гладь, смешивая свою голубизну с небесной лазурью. Над нами пролетел утиный клин, непонятно куда и зачем. Под Липой справедливости отец разбирал уже другую жалобу сельчан.
Нура поймала мою руку. Горя то ли досадой, то ли гневом, я попытался высвободиться, но прикосновение ее нежной теплой кожи усмирило меня. Я поглядывал украдкой. Я ласкал взглядом абрис щеки, округлой, пленительной, с нежным пушком, долго смотрел на густые блестящие волосы, собранные на макушке в узел, из которого ускользнули несколько прядей – они щекотали ей лоб, виски, прелестные ушки, подчеркивали ясность ее лица.
Нура вдохнула чистый утренний воздух, опустила длинные ресницы и призналась мне:
– Я кое-что сделала для зачатия вашего ребенка. Кое-что важное. И горжусь собой.
– О чем ты?
– Я вам помогла.
Помогла нам? Мне? Она что, издевается надо мной? Она намеренно выбирала эти язвящие меня слова или же неосознанно? Нура удовлетворенно добавила:
– Я посоветовала Мине помолиться Богине-матери, Началу всех начал, и поднести ей пузатые фигурки. А еще я дала ей лучшие травы, которые благоприятствуют вынашиванию. Мина послушалась меня.
– Ах, это ты велела ей пить крапивную настойку?
– Ну да. То есть… назначил Тибор, а я передала его совет.
– Она меня каждый день поила крапивой!
– Это укрепляет и мужчину. Ну а ты пил отвар клевера?
– Нет.
– А отвар малинового листа?
– Нет.
– Отлично. Ах, я забыла! Тибор сказал, что Мине больше нельзя пить малиновый отвар. Не знаю почему, он мне сегодня утром сказал. Передай Мине, пожалуйста.
Она побарабанила бело-розовыми пальчиками по моей руке, загорелой, исцарапанной, со вздувшимися венами.
– Ну, ты доволен?
Я был в ярости. Долго еще она будет меня морочить этими пустыми разговорами? Когда мы поговорим о главном?
Не в силах терпеть, я ринулся вперед:
– Нет, я не доволен. Потому что мне плевать на то, что происходит с Миной. Потому что Мина меня раздражает. Потому что Мина нагоняет на меня скуку. Потому что не я ее выбрал, а отец навязал мне ее.
Она бросила встревоженный взгляд на Панноама, желая убедиться, что он к нам не прислушивается.
– Он ошибся?
– Он поступает по-своему, как ему кажется выгодней для деревни. Ему было безразлично, кто мы такие, Мина и я, чего мы желали, на что надеялись, что нас сближало или отдаляло друг от друга. Для него важны были интересы деревни, мирные и торговые соглашения, а вовсе не наши с Миной интересы.
Она упрямо повторила, пристально глядя на меня:
– Он ошибся?
– Как вождь – нет. Как отец – да.
– А какая разница?
– Отец ищет счастья для сына, вождь – для общины.
– Но твой отец – вождь. А ты сын вождя.
– Ты пра…
– Так как же ты смеешь порицать своего отца?
Я был уязвлен.
– Не хитри, Нура, хватит ходить вокруг да около! Мы говорим не о ней, а о тебе. Я осуждаю отца не за то, что он выбрал Мину для меня, а за то, что он выбрал тебя для себя.
Она выпрямилась, кровь ударила ей в лицо. Гнев заострил ее черты, кожа натянулась к вискам и переносице. Лицо стало жестким и очень женским.
– А какое тебе до этого дело?
– Панноам тебя украл!
– То есть?
– Он украл тебя у меня! Он меня обокрал!
– Обокрал тебя? Разве я тебе принадлежу?
Я в замешательстве опустился на колени и дал волю бурному потоку слов, беспорядочному и безостановочному; я признался ей во всем: в своей страсти, которую так долго лелеял, в своем желании взять ее в жены, рассказал о просьбе отцу, о томительном ожидании после того, как отца искалечили Охотники, о моих надеждах во время его выздоровления и, наконец, о моей тоске, когда я узнал, что он растоптал мои желания и сам берет Нуру в жены.
– Почему ты ничего мне не сказал? – побледнев, прошептала она. Ее тонкие ноздри дрожали.
– По нашим правилам, это сначала обсуждается с родителями, потом с родителями жены.
– Но ведь в первую очередь это касается меня!
– Я собирался сказать тебе, Нура, как раз в тот миг, когда раздались крики Панноама и лай собак. Вспомни. Я оборвался на полуслове и бросился к отцу.
– Да, я вспоминаю. Но я помню, что тем же вечером, когда все было позади, я предложила тебе закончить разговор.
– Я тогда падал от усталости, так вся эта история меня выпотрошила.
– Ну а потом?
– Ты ухаживала за моим отцом. Я надеялся, что это послужит нашему делу.
– Нашему?
– Что он согласится.
Слушая собственные объяснения, я начал понимать, что все это время поступал исходя из того, что Нура – моя сообщница и горит желанием стать моей женой.
Она подтвердила мои мысли, недовольно скривив губки:
– Ты никогда мне не говорил, что хочешь взять меня в жены, ты ни разу не признался мне ни в любви, ни даже в симпатии. Или ты считаешь, что у тебя это на лбу написано?
– Как же, Нура, это и без слов ясно!
– Что ясно?
– Что всякий, кто тебя встретит, непременно в тебя влюбится.
Глаза ее вспыхнули, потом она велела мне встать с коленей, сесть подле нее на пень и перевела дух: Панноам наших бурных объяснений не заметил.
Я грустно повиновался.
– А если бы я сказал, что-нибудь изменилось бы?
Ее глаза наполнились слезами, и она убежала.
Значит, это я во всем виноват…
Долгие годы свою покорность отцу я считал незыблемой, и лишь потом она пошатнулась, но слишком поздно, и Нура уже никогда не будет моей.
Однако этот печальный факт кое-что мне открыл: я наделен некоторой властью. Да, я мог вмешиваться в свою жизнь, а не только терпеть ее. Во всяком случае, теперь я это знал. Я понял, что могу быть собой, а не кем-то другим; я впервые обнаружил неопределенную часть моего существования, лазейку, слабое место, зону туманности, зияние, точное имя которому дать не мог и которое тысячелетия спустя философы назовут свободой. Это запоздалое открытие лишь усиливало горькую мысль: Нура не станет моей женой.
В мире, где я родился, свобода не только не имела имени, но и не пользовалась спросом. Вот почему Нура отсекала – Нура дерзкая, Нура странная – ту Нуру, которая попирала обычаи. В ее годы ей надлежало быть замужем! И стать матерью! К тому же красота и ум той, что сегодня сочеталась с Панноамом, возвысят ее до великолепной партии. Почему она так тянула? Почему до сих пор уклонялась от супружества? Почему – я не знал. Каким образом – я понял: Нура вынудила Тибора смириться со своим нравом, ведь тот боялся перепадов ее настроения, приступов гнева и слез и наслаждался ее радостью. Мама говорила, что она его за нос водит; но она водила его за сердце. Он любил ее. Его привязанность переросла простую родительскую ответственность. Стараясь не раздражать ее и не перечить ей, он обращался с ней уважительно, подмечал ее притязания, считал своей ровней.
Подобные отношения Нура установила и со мной: мы спорили, я ее выслушивал, мы обсуждали и женские, и мужские темы, меня интересовало ее мнение, я приводил доводы, я признавал свои ошибки, я никогда не был с ней резок.
Сельчанам Нура внушала уважение. Пришлая, непонятного происхождения, она одевалась, выражалась и вела себя на свой манер, была непредсказуема, то высокомерна, то приветлива, смешлива поутру, вечером задумчива, очаровательна, усердна, эгоистична, уязвима, чувствительна и бесчувственна – ее венчал ореол тайны. Будь она замужней, сельчанам было бы проще определить ее, но ее положение непреклонной и великолепной девственницы придавало ей еще больше пикантности. Она казалась всем королевой. Бесспорной королевой.
Бесспорная королева неведомого королевства…
А на самом деле этим королевством была она сама: Нура управляла собой, она с собой договаривалась и себе подчинялась.
Эта гордая независимость была заразительной… И вот я перестал безоговорочно разделять отцовские идеи и одобрять его решения. Я отделился от него. Конечно, я не отваживался на разрыв, но встал на путь, который к нему ведет, – на путь сомнения. Прав ли был отец, взяв себе вторую жену, когда у него уже имелась полноценная семья, готовая ему наследовать? Прав ли он был, когда пренебрег моими интересами и предпочел им свои? Прав ли он был, когда разрушил наше прекрасное согласие?
Нура вела себя с нами, с Панноамом и со мной, по-разному: ее присутствие будило в нас смутные импульсы, питавшие нашу особость и расшатывавшие устои. Тем самым Нура нас ссорила: она отделяла сына от отца, противопоставляла сына отцу. До нее один плюс один оставалось единицей. Теперь один плюс один равнялось двум.
Я не слишком радовался тому, что заразился свободой. Она не укрепляла меня, а удручала. Зачем уходить от нормы, если за это расплачиваешься миром и согласием?
В тот день я шел домой, исполненный решимости стать прежним Ноамом. Нура возмутила чистую и спокойную воду моей жизни. Я мирно плескался, а она швырнула меня в водопады и бурные потоки; я довольствовался привычной лужей, а она приговорила меня к штормам; итак, я возвращаюсь в родную лужу. Прощай, Нура, здравствуй, Мина. Ведь это и есть моя жизнь. По какому праву я требую большего? У меня была жена, скоро будет и наследник, я встану на место отца во главе деревни.
Переступив порог, я позволил Мине поворковать, походить распустив хвост, пританцовывая, потом с невинным видом спросил, чему она так рада.
Мина разыграла нерешительность, еще пуще стала жеманничать, радуясь, что придержала свой секрет. Но когда я нахмурился из-за этих выкрутасов, она объявила, что у нее будет ребенок. Ее веселые и робкие глазки, притаившись под низким лбом, ожидали моей реакции. Натруженные красные ручки очертили вокруг живота внушительный купол. Я встряхнулся, чтобы отогнать дурные мысли, подавил в себе ощущение дежавю, пытаясь забыть, сколько раз я обольщался напрасно; стараясь убедить себя, что на сей раз меня ждет детский лепет, а не похороны младенца, я изобразил восторг.
Ослепленная счастьем, Мина не заметила ни моих уловок, ни моих усилий.
День покатился по колее, проложенной этой сценой. Нужно было всенародно возвестить о том, о чем все, кроме меня, и без того догадывались. Вяло повиснув на моей руке, исполненная гордости, Мина мурлыкала и упивалась деланым удивлением соседей, привычными поздравлениями и пожеланиями: можно было подумать, что это она изобрела беременность! Я смотрел на нее с невольным презрением… лицо ее не было ни уродливым, ни красивым, вся она была лишена и достоинств, и недостатков, но болтовня ее была невыносима… лучше бы она молчала.
Вечером, пресытившись своим торжеством, она свернулась подле меня калачиком, положила голову мне на грудь и тотчас задремала. Моих губ коснулась улыбка, впервые за этот день искренняя: нет, я больше не поддамся этой рохле и не стану ее оплодотворять.
Наступила ночь.
Жизнь, казалось бы, шла своим чередом.
Прихрамывая на своей ноге из оленьей кости, Панноам все так же шагал по улицам деревни, и я все так же сопровождал его. Мы беседовали с жителями, вели переговоры с вождями соседних деревень, укрепляли отряд воинов, дрессировали собак, предназначенных для защиты от Охотников. Панноам, невзирая на свои хвори и увечье, усердно готовил меня себе на смену. Не угрызения ли совести были причиной этого преувеличенного внимания ко мне?
Мама утратила прежнюю веселость, хотя еще не осознала этого; в глазах ее застыло крайнее удивление. Ее супружеская жизнь до сих пор была ей в радость, и она никак не могла свыкнуться с мыслью, что ее муж официально и безоговорочно ввел в дом молодую соперницу. Мамины взгляды на жизнь изменились, она тревожно оглядывала свое тело, говорившее ей об утрате совершенства; ее обескураживал новый враг, внушавший ей страх и понимание, что ей его не одолеть, – время. И она обнаружила, что своими последними ухищрениями невольно скрывает увядание: обвешивается бусами, чтобы скрыть располневшую шею, носит платья без пояса. Мне было больно за нее. Уголки глаз опустились; лицо отяжелело; румянец говорил уже не об избытке жизненных сил, а об одышке.
Оставаясь с Панноамом вдвоем, мы с ним не произносили ни слова. Нас уже не связывало ничего, кроме общинных дел. Не касаясь предмета нашей размолвки, мы не обсуждали и других семейных дел – ни беременности Мины, ни здоровья Мамы, – тем более что Тибор самолично занимался Мамиными мигренями. Привычная дружеская болтовня, шуточки и подтрунивание канули в прошлое.
Шли дни, и наше молчание становилось все тягостней. Поначалу оно освобождало нас от никчемных слов, затем стало давить. Мы с Панноамом не знали, как разрубить этот узел. Случилось немыслимое: находясь рядом с ним, я скучал.
И страдал от этого.
Страдал, думая о нашем прошлом, освещенном светом чистой привязанности; страдал, думая о нашем унылом будущем, с которым я уже не связывал честолюбивых помыслов.
Не знаю, страдал ли Панноам. Увы, по его лицу, искаженному постоянными болями, я не мог отличить душевного страдания от телесного.
Наш разлад – вот что меня мучило. Клинок, рассекший нашу дружбу, расщепил надвое и меня. Во мне жили два противоборствующих существа: хороший сын и дурной, покорный и мятежный. Когда я придерживал язык, мятежник кидался на покорного. Если же я протестовал, покорный затыкал рот мятежнику. Я жил в постоянном разладе с собой и вел с собой непрерывную войну. Я сдерживал свои побуждения и слова. Но и наоборот: я упрекал себя за чрезмерную сдержанность, подавление своих порывов, придирки к себе. Я был подмостками разлада, я был самим разладом; я был мучением и мучился сам.
В то утро Панноам предложил мне сесть рядом с ним под Липой справедливости напротив жалобщиков. Обычно он требовал, чтобы такие встречи проходили без посторонних, полагая, что те могут повлиять на ход дела.
– Я хочу, чтобы ты учился вершить суд, Ноам.
Пришли двое селян, толстый и тощий. Толстяк Пурор возмущался, что собака тощего Фари задушила его пятерых цыплят.
– Ты лучше присматривай за своими курами! – вопил Фари, торговец овсом.
– Я не собираюсь запирать своих кур из-за твоей паршивой собаки. Как же им кормиться? Убей свою собаку.
– Убить мою собаку?
– Или привяжи.
– А зачем мне собака на привязи? Она должна сторожить мой дом, гнать незваных гостей, душить лис, крыс и хорьков.
– Твоя собака уничтожила моих кур. Если не привяжешь, я ее убью.
– Только тронь мою собаку, я тебя удушу!
Панноам дал им выпустить пар. Когда они обратились к нему, он мирно объявил толстяку Пурору:
– Посади остальных кур в высокий загон, чтобы собака в него не проникла. Тогда и твои куры будут целы, и собака Фари останется при деле. Всякая живность должна приносить свою пользу.
– Вот поистине мудрое решение, – с облегчением вздохнул тощий.
– Пусть он возместит мне убытки! – взорвался толстый. – Пусть отдаст мне пять кур! Пусть каждый день приносит мне яйца!
– Ничего подобного, – проворчал Панноам. – Прими меры предосторожности, таково мое решение.
– Он виноват! Он и его собака!
– Это мое последнее слово, – сурово отрезал Панноам и встал. – Ты просил справедливости, ты ее получил. А теперь идите по домам.
Жалобщики ушли, тощий довольный, толстяк чертыхаясь.
Панноам повернулся ко мне:
– А ты рассудил бы так же?
Я поколебался, затем ринулся в бой:
– Нет. Я потребовал бы возместить убыток. Пурор пришел с жалобой, он пострадал из-за гибели своей живности, он жертва. И вот его же и обвинили. Мало того, ему предстоит еще разориться и на загон для кур.
– Тебе это не кажется справедливым?
– Нет.
– Почему я вынес такое решение? Оно мне кажется более разумным для нашего будущего. Собак в деревне становится все больше, и такие случаи будут повторяться, если кур не помещать в загон.
– Я одобряю, что ты ввел это правило. Но оно еще не было в силе, когда этот случай произошел. Нечестно наказывать того, кто…
– Надо припугнуть куроводов, а не владельцев собак.
– Припугнуть? Мне казалось, ты ищешь справедливое решение.
– Ноам, такое может случиться и с нашими собаками.
– Ну да, понимаю: не справедливость для всех, а справедливость для себя!
Он рассвирепел:
– Молчи! Справедлив тот суд, который я вершу под этим деревом.
– Ах вот как! Ты вершишь? Это не справедливость, а произвол!
– Довольно!
Панноам побагровел; он раскачивался, припадая на левую ногу и тяжело дыша. Я набросился на отца впервые; мой бунт был стихийным, я его толком не осознал. Меня он озадачил, отца – обозлил.
Мы замолчали. Это был наш первый за многие недели столь долгий разговор.
Панноам снова сел, потер виски; взгляд был холодным и непреклонным.
– Займись подготовкой моей свадьбы.
– В каком смысле?
– Организуй торжества: церемонию, цветы, угощение. Мать больна.
Нет чтобы сказать: «Мать страдает» или «Мать отказывается», – он назвал ее больной. Меня раздражало его самодовольство.
– Ты мой сын, и к тому же старший.
– Но у тебя есть и другие дети, и самое время о них вспомнить.
– О чем ты?
– Если подготовкой займусь я, боюсь, что я «заболею», как и мама.
– Да как ты смеешь?
Я без робости вплотную приблизился к нему и сквозь зубы процедил, глядя прямо в глаза:
– Неужели тебе мало того, что ты меня подмял? Что пнул меня, как собаку? Ты хочешь стереть меня в порошок и уничтожить?
Он вздрогнул, не ожидая такого выплеска гнева. Я добавил:
– Поручи это сестрам, а меня уволь.
– Но почему?
– Неужели нужно объяснять?
Потрясенный моим упрямством, он весь обмяк и растерянно пробормотал:
– Я не знал. Ты ничего не сказал. Откуда я мог знать?
Его внезапная слабость меня ничуть не разжалобила.
– Ты прекрасно знал, что я надеялся взять Нуру в жены.
– Ах да, ты что-то такое говорил… – презрительно бросил он.
В этот миг я понял, какая пропасть разделяет нас. Когда он решил взять Нуру себе и отказал мне, он посчитал, что тема закрыта. Напоминание старой забытой истории вызвало у него досаду. Неужели отец так плохо меня знает? Так мало придает значения моим мыслям и чувствам? Неужели думает, что его приказы с легкостью их изменят? Конечно, в том была и наивность, и самоуверенность, и эгоцентризм…