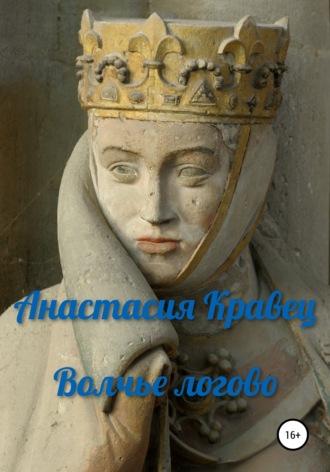 полная версия
полная версияВолчье логово
Иногда его ожесточенное, тревожное сердце посещали совсем иные страхи. Он думал, что однажды его искусство убьет его. Когда он был слишком увлечен интересным рисунком, в крови его просыпался такой иссушающий жар и пыл, что он не мог ни на мгновенье прервать своего занятия. Он не мог ни заснуть, ни прикоснуться к еде, пока кисть, как безумная, сама по себе летала в его дрожащих руках. Прерваться было немыслимо. Он страдал от бессонницы и сильной жажды, его лоб начинал гореть, глаза уставали, рука ломила, но злой дух, овладевший им, не давал прервать работу хоть на мгновение, не давал сделать ни одного полного и спокойного вдоха, пока последний оттенок не ложился на лицо святого, и кисть не выпадала из обессиленной, опустившейся руки…
В такие минуты Жозеф с тревогой думал, не суждено ли ему самому однажды упасть мертвым, не окончив приковавшую к себе, убийственную картину…
Когда смерть виделась такой близкой, она пугала его.
И все-таки, у Жозефа была одна-единственная, сокровенная мечта. Она хранилась где-то в самой сокровенной глубине его сердца, под слоем ненависти, презрения и жестокого разочарования.
Он страстно жаждал, чтобы однажды хоть одно человеческое существо могло, как при ослепительной вспышке молнии, увидеть весь мрачный ад его полумертвой души: все его тяжкие пороки и мучительные сомнения, все его бессонные и наполненные скукой дни, всю его жестокую боль и все его безумные надежды… Он хотел, чтобы другое сердце прочувствовало каждое малейшее его ощущение и душевное движение, каждую его печаль и радость. Только увидев и ощутив все это, можно в полной мере понять и простить чужое безумие и порок. Ему не нужно было пустое, жалкое сострадание, которое могли предложить ему люди. Ему нужно было огромное и безмерное сострадание, достойное самого падшего Люцифера!
Иначе, зачем ему весь этот чужой, бессмысленный и холодный мир, полный нелепых и громоздких установлений, нисколько не способный понять даже малую долю его жестокого горя?! Он отвергал этот мир.
Жозеф прекрасно сознавал, что полное понимание, о котором он мечтал, в жизни невозможно. Люди не могли ему этого дать, бог казался чужим и далеким…
Но ему нужно было именно это, и ничто другое. От того, что его страстная потребность, его великая мечта, была недостижимой, она становилась только сильнее и необходимее. Его безумная душа изошла кровью, пока десять лет, как плененная птица, билась грудью о железные прутья недостижимого…
Странно, но почему-то Жозефу никогда не подходило то счастье и радости, которые могли сделать счастливыми всех остальных людей на земле. Ему нужно было какое-то свое, ни на что непохожее, удивительное счастье, которому в узком и нелепом мире нет места.
Быть может, он сам не знал, что ему нужно.
Брат Ульфар постоянно пытался наставить его на путь истинный, отец Франсуа с отчаянием в голосе просил его наконец взять себя в руки и зажить человеческой жизнью.
Но в том-то и дело, что этой «человеческой жизнью» Жозеф никогда жить не мог. Все порядочные люди радовались свету дня, он мог существовать лишь ночью. В этом строго устроенном мире люди молились, воевали, сеяли зерно или, на худой конец, торговали. Но Жозеф, родившись среди сеньоров, и надев монашескую сутану, не мог ни воевать, ни молиться. Он мог только рисовать…
Все люди мечтали о высоких титулах и богатстве, о радости и процветании, о счастливом браке и лекарствах от тяжких недугов тела. Ему не нужно было ни роскоши, ни веселья, ни любви, ни славы. Ему нужно было только лекарство от душевных ран, его витражи и немного лунного света… Но это малое оказывалось более недостижимым, чем все богатства мира…
Колени затекли и заболели. Наверное, он уже долго сидел так, горестно улыбаясь и бесцельно рассматривая то черные тени колеблющихся ветвей, такие же неспокойные, как он сам, то тонущий во тьме потолок, которого не касались робкие лунные лучи. Сон горожанина был по-прежнему спокоен и безмятежен. А его мысли все так же мучительны и бесполезны.
Сколько прошло времени с тех пор, как он поссорился с братом Ульфаром? Сколько прошло времени с тех пор, как он глубокой ночью в ужасе и отчаянии прибежал к воротам этого старого монастыря? Скоро ли наступит проклятый рассвет?..
Ответом на эти печальные мысли одинокого монаха стал глухой, замогильный звон колокола, призывавшего к заутрене. Эхо его разносилось далеко по самым глухим закоулкам священной обители.
Этот заунывный, печальный звук разбудил Жиля. Прямо напротив себя он увидел неподвижного и немого, как надгробная статуя, сарацина. Лицо его было бледным, как расплавленный воск, глаза потухшими, на губах блуждала странная, пугающая улыбка. В голубоватом лунном свете он казался каким-то нечеловеческим существом, стоящим на пороге между миром живых и миром призраков…
VIII. Неприятный разговор
В тринадцать вы блистали: в тринадцать лет вы были милы, любезны, тонки и умны, как никогда впоследствии; то был последний всполох солнца на закате; однако, есть различие: наутро солнце взойдет опять, детская же одаренность, единожды угаснув, не вернется никогда. Часто говорят, что бабочка появляется из гусеницы; у людей наоборот: гусеница – это бывшая бабочка. Ваш гений угас, когда вам было четырнадцать; вы превратились в грубоватого юнца, который звезд с неба не хватал.
А. де Монтерлан «Мертвая королева»
Разве я виноват, что я не такой, как вы? Никогда – вернее, уже очень давно – вы не выказывали ни малейшего интереса к тому, что занимало меня. Вы даже не пытались претвориться, что вам это хотя бы любопытно.
А. де Монтерлан «Мертвая королева»
Жозеф так и не уснул в эту ночь. А наутро явился брат Ватье и сообщил, что его хочет видеть настоятель.
Это показалось Жозефу странным, так как в последнее время отец Франсуа избегал разговоров с ним наедине. Тем не менее, он сразу же пошел к настоятелю, хотя подавленное настроение и бессонная ночь вовсе не располагали к ведению оживленных бесед.
Келья аббата была немного больше и просторнее, чем кельи остальных братьев. Здесь было светлее и свежее, чем во всем мрачном и печальном здании. Большой, крепкий стол, заваленный старыми книгами и бумагами, придавал комнате некоторое сходство с рабочим кабинетом. На стене висело строгое деревянное распятие, не украшенное ни драгоценностями, ни позолотой. Очевидно, почтенный настоятель, несмотря на всю свою утонченность, не приветствовал излишества и роскошь в стенах монастыря. Обстановку в келье немного оживлял букетик из высушенных синих васильков с пушистыми, резными лепестками, украшавший распятие, и два красивых стеклянных флакончика с искусными крышками, которые стояли на столе среди книг и писем.
Брат Жозеф, небритый, со спутанными, непослушными волосами, в измятой сутане и с угрюмым и замкнутым выражением лица, казался чем-то чуждым и ненужным в этой светлой комнате.
Сам отец Франсуа, как всегда одетый с аккуратностью, какую только позволяли те времена и его образ жизни, сидел за столом, углубившись в чтение лежавшей перед ним книги.
– Мой дорогой Жозеф, – сказал настоятель, подняв голову при появлении сарацина, – я должен поделиться с вами одной нелегкой заботой…
– Что произошло? – спросил брат Жозеф настороженно и тревожно. Слова аббата сразу вывели его из состояния отрешенности и равнодушия, в котором он пришел сюда.
– Вам известно, что около месяца назад я потерял одного из моих старых друзей, да упокоит Господь его душу, отца Готье, который исполнял должность капеллана в замке сеньора де Сюрмона. Я знал его с давних пор и был к нему сильно привязан… Мы вместе предавались воспоминаниям о беспечных и веселых годах нашей юности. Любезный Готье сопровождал меня в поездках в город, когда того требовали дела монастыря, и оказывал мне многие другие ценные услуги. Ах, как нелегко смириться с потерей близкого и дорогого существа! Как нелегко поверить в то, что больше не услышишь знакомый голос и не увидишь привычного лица… Остается лишь хранить все это в сокровищнице наших воспоминаний…
– Я понимаю вас, – медленно проговорил Жозеф.
– Да, – горько вздохнув, отвечал аббат, – к сожалению, всем нам знакомы потери и злые печали этого мира… Они не обошли стороной и нас с вами. Увы, смерть отца Готье лишила нашего славного мессира Анри замкового капеллана, который был ему необходим. Но, вы же знаете, в нашей глуши не так-то просто найти достойного и хорошего человека на это место. Сеньор де Сюрмон очень опечален. Он обратился ко мне с горячими просьбами помочь ему. Не зная, как быть, я пообещал ему прислать кого-нибудь из братьев, кто взял бы на себя обязанности капеллана хотя бы на время.., – тон настоятеля становился все более нерешительным. – Я подумал… быть может… Мой дорогой Жозеф, ведь вы все равно ничем важным не заняты…
Выражение сочувствия и участия на лице сарацина мгновенно сменилось пылким гневом и жестоким раздражением.
– Чудесно! – воскликнул он. – Вы решили помучить меня еще одним милым поручением! То этот проклятый горожанин, которого вы поселили у меня в келье, то служба сеньору де Сюрмону! Почему вы никогда не обращаетесь с просьбами к другим братьям? Или вы настолько ненавидите меня, что больше не желаете видеть моего лица?!
– Ненавижу вас?! – ужаснулся отец Франсуа, приложив руку к груди. – Прошу вас, не говорите так. Мое бедное сердце этого не выдержит! Как я могу вас ненавидеть?! Я был так привязан к вашей чудесной матери… Я так заботился о вас, дитя мое. Откуда столько необузданного и жестокого гнева в ваших словах? Как меня печалит ваше безумное поведение… Я вовсе не хочу отсылать вас надолго. Каких-нибудь три-четыре часа в день… Неужели вы не можете посвятить их сеньору де Сюрмону?
– Три часа – это вечность! Это вечность, когда думаешь о сочетании красок, о цвете облаков, о выражении лица Марии, о складках на одеждах Иисуса! Это вечность, когда чертишь наброски на бумаге, боясь упустить единое мгновение, чтобы не забыть ни малейшей детали! Посмотрите на меня! Неужели вы не понимаете, что витражи по капле высосали мою кровь! В ваши юные годы, отец Франсуа, вы смеялись и радовались жизни, а я рисовал! Вы улыбались женщинам и танцевали на праздниках, а я рисовал! В моей жизни не оставалось времени ни для единой радости, кроме изгибов линий и чарующего блеска… О, вы не понимаете! Если бы я даже захотел предаться веселью, пирам и танцам, Мария, апостолы, Иоанн, Иосиф… они не позволили бы мне! Они являлись бы мне во сне и звали бы за собой! Но я даже не хотел… Моя душа была так полна всем этим великолепием, что радости других показались бы мне жалким подобием моего огненного вдохновения. Три часа! Откуда я могу знать, три года или три дня ждут меня впереди?! Три окна еще не расписаны… Иногда у меня нет времени, чтобы напиться…
– Боже мой, Жозеф, мальчик мой, успокойтесь, – сказал встревоженный его волнением настоятель, кладя руку на плечо сарацина.
– Не трогайте меня! Не прикасайтесь ко мне! – и брат Жозеф, резко дернувшись, оттолкнул руку аббата. – Я никогда не соглашусь! Я не хочу видеть людей!
– Вы пугаете меня. Разве вы не видите, что я всей душой желаю вам добра? Вы сходите с ума в этих четырех стенах… Увы, у вас очень неспокойный нрав. А вся скука и однообразие нашей жизни и вправду очень тягостны… Я подумал, что вам было бы полезно немного развлечься, побывать в обществе людей…
– Я не для того бежал от них, чтобы потом возвращаться, – отвечал Жозеф, немного успокоенный мягкими словами настоятеля.
– Послушайте моего совета: забудьте хоть на время о вашем ремесле, о ваших страданиях и согласитесь на это предложение. Вы знаете мессира Анри, он добрый и благородный человек. Он не посмеет вас оскорбить.
– Есть ли здесь человек, который не оскорблял меня, от самого бедного крестьянина до благородного сеньора? – с горькой усмешкой спросил сарацин.
– Нет, нет, не думайте об этом. Вы были крещены, вы вступили в наш святой орден…
– Но это не изменило крови, которая течет в моих жилах…
– Такие речи большой грех, Жозеф, – покачал головой отец Франсуа. – Сколько язычников в древние времена обратило свой лик к Господу, и он всех принял в свои объятия. Мессир Анри будет добр и приветлив с вами. У него открытый и приятный нрав. Вы будете иногда служить мессу в часовне замка и исповедовать сеньора де Сюрмона с его дочерьми.
– С дочерьми? – переспросил Жозеф. – У него есть дочери?
– Да, разумеется. Разве вы об этом не слышали? Бедные девушки брошены на произвол судьбы и покинуты. Ведь у них нет любящей матери. Раньше отец Готье кое-как наставлял их, когда у него было время и охота. А теперь… Сеньора де Сюрмона печалит то, что понятия дочерей о христианской вере и вообще о нашем мире весьма плачевны. Они росли, как сорная трава… Если бы хоть вы привили им некоторые представления о благочестии и достойной жизни…
– Возиться с вздорными и глупыми девчонками! – возмутился Жозеф. – Нечего сказать, хорошее занятие вы мне предлагаете.
– Пожалейте этих несчастных девушек. Они нуждаются в хорошем наставнике, чтобы спасти свои заблудшие души. Да и потом, вы сможете взять с собой в замок нашего гостя. Он тоже смертельно скучает в нашей обители, а ведь он еще молод и не давал, подобно нам, сурового обета заточить себя здесь…
– Так и скажите, что затеяли все это ради чертова горожанина! Признайтесь, вам всегда нравилось принимать участие в судьбе молодых и веселых людей, которые развлекают вас пустыми речами и непосредственным обаянием. Наверное, и я в молодости был вам куда милее, чем теперь.
– Это правда, – задумчиво произнес аббат. – В юности в вас не было этого пылкого гнева, этой ожесточенности… Вы были ласковым и приветливым с теми, кто умел завоевать ваше драгоценное доверие. Да, вы так сильно изменились! Где теперь ваша светлая улыбка и мечтательный взор?..
– Там же, где и моя юность, мои разбитые мечты и моя мертвая душа. Тогда я был наивным и глупым. Я не знал мира и не знал людей. Но в остальном, я был таким же, как и сейчас. Мое безумие всегда жило во мне… Но за сиянием моих восторженных глаз вы не замечали того темного, что скрывалось глубоко внутри… Этого свирепого зверя в клетке. Нет, ничего не изменилось.
– Господи, опять эти ваши страшные грезы! – испуганно отмахнулся аббат. – Прошу вас, не говорите мне о них. И сами не забивайте ими вашу бедную голову. Итак, вы согласны отправиться в замок де Сюрмон вместе с мэтром Жилем?
– Если вы прикажете, то что мне еще останется делать? Но это будет совершенно против моего желания.
– А если я попрошу вас, Жозеф? – ласково сказал настоятель, беря его за руку.
Сарацин отвернулся, но руки не отнял.
– Отец Франсуа, – наконец произнес он искренним и прочувствованным тоном, – долгое время вы были для меня любящим и добрым отцом в большей степени, чем мой собственный. Вы наставляли меня и заботились обо мне. Вы дали мне защиту, когда мне грозила смертельная опасность. Неужели же вы думаете, что я смогу вам отказать в такой ничтожной малости? Я отдал бы вам и оставшиеся годы моей горькой жизни, если бы это было нужно…
– Вот это разумные и добрые речи, мой мальчик, – улыбнулся настоятель. – Значит решено, завтра вы пойдете к сеньору де Сюрмону. Только вам надо будет переодеться и побриться. Что это за вид? Вы похожи на простого ремесленника. Ваши рукава все измазаны краской. Попросите брата Ватье дать вам новую сутану, эта никуда не годится! И до утра приведите себя в человеческий вид, чтобы не стыдно было показаться в замке благородного сеньора.
– Должно быть, чертовы девчонки не станут ради меня мыться и стирать свои грязные платья, – усмехнулся Жозеф.
– Не будет большого греха, если вы окажетесь умнее и придете к ним чистым и причесанным, – смеясь, отвечал аббат. – И, прошу вас, будьте полюбезнее и поприветливее с благородным сеньором и юными девицами, иначе они и вправду примут вас за дикаря из той страны, откуда родом ваши предки.
IX. В замке
Будь то Урганда иль Моргана,
Но я люблю, когда во сне,
Вся из прозрачного тумана,
Склоняет фея стебель стана
Ко мне в полночной тишине.
Виктор Гюго «Фея»
Все в мире быстротечно!
Дым убегает от свечи,
Изодран ветхий полог.
Басё
Холодное утро, в которое брат Жозеф и Жиль дель Манж вышли из монастыря, поражало удивительной чистотой и сверкающими красками. Вся бескрайняя равнина была покрыта белым, рыхлым снегом, в котором башмаки утопали, как в легком, птичьем пуху. Яркие солнечные лучи играли на снегу, заставляя его искриться тысячью неуловимых бликов. Нестерпимая белизна больно резала по глазам и заставляла то и дело прикрывать их. Светлое небо, с редко разбросанными по нему серебристыми перьями облаков, было бездонным и чистым. Восхищенный взор тонул в его беспредельности… На синеватой линии горизонта виднелась далекая и одинокая башня замка де Сюрмон.
Когда путники наконец приблизились к замку, Жиля поразили тишина и покой, царившие вокруг. Ни ярких, трепещущих на ветру знамен, ни угрожающего звона оружия, ни веселых голосов шумных вассалов. Это здание казалось таким же заброшенным, старым и тронутым тленьем, как и монастырь Сен-Реми. Тяжелые, массивные деревянные ворота обветшали, железные цепи, поддерживающие их, заржавели. Ограда замка кое-где уже потрескалась и облупилась. Ее покрывали высохшие стебли плюща и дикого винограда, которые весной, должно быть, одевались зеленой листвой, скрывая под своим причудливым узором старые, покрытые трещинами камни… За оградой, с неровными, полуразрушенными зубцами, возвышался мрачный, одинокий донжон9 с темными, узкими окнами. На верхушке башни, подобно последнему осеннему листу, уныло висел старинный, выцветший флаг, видевший за свое долгое и безрадостное существование уже не один дождь и снегопад.
Вся эта картина показалась Жилю такой печальной, что он невольно подумал о том, существует ли в этих заброшенных краях хоть одно место, где бы еще теплился огонек жизни и радости?
Брат Жозеф громко постучал в ворота. Но прошло еще не мало времени прежде, чем заскрипели тяжелые, неподатливые цепи, и перед ними предстал бедно одетый и плохо вооруженный, седой и угрюмый стражник.
Монах выразил желание видеть сеньора де Сюрмона, и их пустили в небольшой двор, с одной стороны усеянный различными хозяйственными постройками.
Вскоре навстречу им вышел сам мессир Анри де Сюрмон, в скромном и потертом, но аккуратном, сером камзоле и ветхом плаще. Живя в бедности и упадке, старик, казалось, всеми силами пытался поддерживать в своих владениях хоть какой-то жалкий порядок.
Несмотря на то, что появление сарацина, явно не обрадовало старого сеньора, он вежливо, но сдержанно поклонился гостям и попросил передать от его имени благодарность аббату за оказанную услугу. Брат Жозеф выразил готовность служить сеньору де Сюрмону, а затем представил ему Жиля, так как на собрании в монастыре горожанин, конечно, не мог как следует познакомиться со знатными гостями. Сарацин говорил спокойно и едва ли не любезно, но очень отстраненно и холодно.
– Еще раз примите мою благодарность, мессир Жозеф, что вняли нашей просьбе и не оставили этот несчастный замок без слова Божьего, – продолжал хозяин. – Увы, я искренне хотел бы быть ближе к лику Господа… Но военные заботы на службе у монсеньора де Леруа слишком часто отрывали меня от благочестивых молитв и мирных размышлений. Что же до моих бедных, лишившихся матери, дочерей, спасение их невинных душ внушает мне самую живую и горькую тревогу. Мало того, что они не воспитаны и не обучены манерам, они так мало знают о долге истинных христианок, что мне порой становится страшно за их пустые, детские головы. Я должен был бы посвятить им больше времени… Но, увы, я не в силах заменить им мать или хотя бы стать духовным наставником. Покойный отец Готье, мир его праху, учил их понемногу, но общество печальных стариков мало подходит для юных девиц. Мадам Жанна, когда она не занимается хозяйством, иногда уделит им часок-другой, чтобы наставить их на верный путь. Но, боюсь, все эти усилия дают крайне скудные плоды…
Мессир Анри вздохнул и печально покачал головой.
– Не думаю, мессир, что я пригоден для воспитания благородных девиц, – с легкой насмешливой улыбкой заметил сарацин. – Я простой монах и художник. Уже давно я покинул мир и ничего не знаю о делах света и изящных манерах. Вам известно, что я грубоват и несдержан. Должно быть, зря отец Франсуа доверил это нелегкое дело мне…
– Уверяю вас, строгость и побои окажутся полезными для моих капризных и распущенных дочек! – воскликнул сеньор де Сюрмон. – Я буду вам безмерно благодарен, если вы выучите их хоть чему-нибудь. Да и все остальные жители замка уже истосковались по мессам. Хоть это и заброшенное место, здесь живут добрые христиане. А вот и мадам Жанна. Она представит вам моих никчемных девчонок.
К ним быстро подошла полная, пожилая дама, шурша ворохом темных, длинных юбок. Ее верхняя одежда была отделана старым, облезших мехом, почти седую голову украшал высокий, пышный чепец с волнистыми краями. На поясе женщины висела тяжелая связка ключей, а к рукам пристали мелкие, блестящие рыбные чешуйки.
– Представьте демуазелей гостям, – приказал мессир Анри, а сам отправился обратно в замок.
– Ох, еще бы найти этих негодниц, – проворчала мадам Жанна. – Истинная казнь египетская с ними… И где только их все время носит? Да уж, мессир, поистине милый подарочек вам достался! Эти капризные девчонки кому хочешь забот прибавят…
– Мадам, кажется, я не спрашивал вашего совета, – ледяным тоном прервал ее сарацин.
– Вот еще, – прошептала женщина, метнув на него недовольный взгляд. – Всякому язычнику слова не скажи… Подумаешь, какой гордый! Ах вот она, сидит на бочке! – воскликнула она. – Клэр, подите сюда сейчас же!
Клэр испуганно соскочила с места и с удивлением посмотрела на нежданных гостей. Это была совсем еще юная девушка лет тринадцати, почти девочка. Наивные голубые глаза были широко раскрыты, приятное, нежное лицо дышало здоровьем и очарованием молодости. Толстые, растрепавшиеся русые косы были перевиты множеством белых ленточек, на грациозной шейке висело какое-то жалкое подобие бус. Из-под верхней одежды выглядывало белое тонкое платье, облегавшее ее еще угловатую, полудетскую фигурку. Кожаные, потертые башмаки на красивых ножках все промокли от снега.
Увидев сарацина, девушка громко вскрикнула от страха.
– Не орите так, как будто увидели призрака, – резко бросил брат Жозеф. – Идите на молитву в замок. Отец ждет вас.
Клэр со всех ног бросилась прочь, но посреди двора поскользнулась и, взвизгнув, упала на одно колено. Жиль, движимый жалостью к прелестной демуазель и хорошими манерами горожанина, тут же подбежал к ней и вежливо подал ей руку. Девушка с благодарностью оперлась на нее и присела в неловком и неумелом поклоне.
– Мадемуазель Бланш! – звала мадам Жанна. – Мадемуазель! Ума не приложу, где она может быть…
Раздался легкий стук деревянных качелей, и из пустоты, прямо перед Жозефом, выросло странное, зыбкое видение. Под висячими ветвями раскидистой ивы, одетыми колючим инеем, стояла стройная, тонкая и невероятно бледная девушка. Вся она казалась сотканной из таинственной, холодной дымки утреннего тумана. Изящный, строгий силуэт вызывал в памяти вытянутые, хрупкие готические статуи. На платье цвета первой листвы, в беспорядке падали длинные и прямые светлые волосы, в которых путалась одна-единственная зеленая лента. Черты девушки, тонкие, острые и резкие, хранили выражение глубокой замкнутости, легкой печали и какой-то задумчивой сосредоточенности. Маленький рот с крепко сжатыми губами выдавал в ней дикость и пугливость. Тонкие пальцы казались почти прозрачными, и на руках просвечивали голубые жилки. Всему ее неясному, смутному, туманному облику невероятно и жестоко противоречили сверкавшие на белоснежном лице темные, бездонные глаза… В них был черный и удивительный огонь, который, казалось, резко прорывался сквозь ее почти нечеловеческую бледность. Так сияет яркое пламя свечи сквозь ветхий, истертый полог в осеннюю, дождливую ночь…
Сколько ей было лет? Свежесть кожи и полудетская наивность ее лица наводили на мысль, что она еще невинный ребенок. Но в следующее мгновенье грустная задумчивость и глубокие, темные тени под глазами, говорившие о том, что ей уже знакомы горькие печали мира, рисовали ее почти взрослой.
В девушке не было ни капли света, очарования и блеска. Она была похожа на тех молчаливых и пугающих духов, которые по ночам преграждают дорогу запоздалому путнику. От нее веяло холодом утопленницы и призрака. Такие недобрые и тихие существа тревожат людей в мучительных ночных кошмарах, после которых сердце бешено выскакивает из груди…

