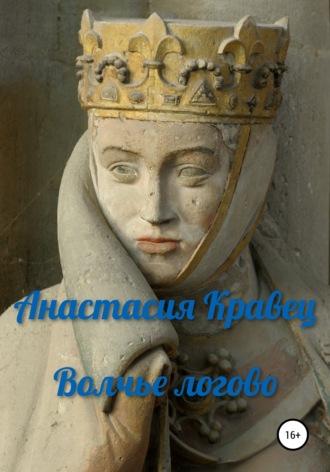 полная версия
полная версияВолчье логово
– Я знал одну такую мать, – внезапно прервал ее брат Жозеф. Его голос дрожал, на глазах выступили слезы. Несколько мгновений он боролся с собой, судорожно закусив губу и отвернувшись, потом продолжал: – Где она теперь? Где ее добрые слова, где чудесные волосы, с которыми играл ее мальчик, где ее нежные ласки?! А ее сын… Кто узнает ее маленького, прелестного сына в этом обезумевшем, опустившемся человеке, в этом одиноком изгнаннике в черной одежде, который стоит перед тобой?!
Оба опять замолчали. Монах резко вытер широким рукавом сутаны непрошенные слезы. Баронесса рассеянно теребила пальцами край своего черного плаща. Каждый сосредоточенно глядел в пустоту.
– Как это странно.., – наконец проговорила мадам де Кистель. – Ты мой самый заклятый враг, Жозеф… но только с тобой я могу говорить так откровенно…
– В таком случае, ты счастливее меня. Я не могу открыть свою душу никому в этом мире. Ты не можешь себе представить, как тяжек этот груз! В час заката я вижу мертвых. Они приходят и смотрят на меня своими пустыми глазами… Они требуют от меня ответа. Увы, что я могу им сказать?..
При этих словах Жозефа баронесса вскочила с места. Ее глаза пылали, губы дрожали.
– Я ненавижу тебя, Жозеф де Сойе! – в бешенстве воскликнула она. – Если бы ты знал, как я тебя ненавижу! Ведь это ты, ты разрушил мою жизнь… Это ты…
– Ты меня ненавидишь! – резко выкрикнул он, и черты его исказились от жестокой, нестерпимой муки. – Слышишь, Сесиль, ты ненавидишь! Ты еще можешь ненавидеть, ты еще можешь чувствовать! Ты жива, Сесиль! А я? Я больше не могу ненавидеть… Посмотри на меня, я больше ничего не чувствую, я жалкий труп… Где это жаркое пламя ненависти, которое сжигало меня десять лет назад? Внутри меня зола…
Он задыхался. На мгновение он снова прислонился к стене и закрыл глаза.
– До завтра, – бросила Сесиль, быстрыми и решительными шагами направляясь к двери. – Я буду молить Бога, чтобы лучи рассвета осветили твой жестокий позор и поражение…
– Проклятое завтра! – исступленно крикнул Жозеф ей вслед. – Пусть завтра обвалятся своды этого несчастного монастыря! Мне отвратительны теплые лучи рассвета! К чему Бог создал это бесполезное солнце? Чтобы оно освещало мои муки?! Когда они закончатся эти проклятые, новые дни?..
Дверь громко захлопнулась. Последних слов Сесиль уже не слышала. Он остался один.
Тогда Жозеф медленно съехал вниз по стене и сел на пол.
Бледные закатные лучи погасли. В маленькой комнате давно стало темно. А он все продолжал неподвижно сидеть на месте и невидящим взором созерцать скользящие, зыбкие тени на голой, холодной стене…
V. Владение
Бедный старый близорукий Родерих! Какую злую силу вызвал ты к жизни, думая навеки укоренить свой род, ежели самые первые его побеги иссушила смертельная отрава.
Э. Т. А. Гофман «Майорат»
Homo homini lupus est.
Человек человеку волк.
Следующее утро выдалось пасмурным и серым. Тяжелые, темные тучи затянули все небо, не давая пробиться ни одному солнечному лучу. День как будто не желал наступать. В воздухе кружились редкие, большие хлопья снега, предвещая скорый снегопад.
Хрустальная, печальная тишина во дворе монастыря Сен-Реми снова была нарушена множеством сменявших друг друга звуков. Но на этот раз то была не одинокая проповедь брата Ульфара и повседневный шум крестьянских работ. Морозный воздух наполнился звонким топотом конских копыт, лошадиным ржаньем, громким звоном оружия и властными голосами приезжих.
Выглянув в окно, можно было увидеть на фоне белого, чистого снега, кое-где уже испачканного лошадиными копытами, яркие одежды богатых сеньоров, вооруженных стражников и вассалов, дамский портшез2 с тяжелым занавесом, усеянным пушистой бахромой, красивых лошадей в цветной упряжи.
Немногочисленные монастырские крестьяне в спешке метались из стороны в сторону, стараясь разместить поудобнее всю эту праздную толпу, так неожиданно и внезапно свалившуюся на их головы…
Сеньоры и их слуги спокойно прогуливались по заснеженному двору, приветствуя друг друга, раскланиваясь и переговариваясь между собой. То и дело слышны были то удивленные возгласы, то короткие приказы, то громкий и несдержанный смех.
Впрочем, Жилю дель Манжу некогда было любоваться этими красотами деревенской жизни. Он делал последние приготовления перед советом: искал бумаги, данные дядей, вспоминал сложные тяжбы, с триумфом распутанные великими клириками и законоведами, и просто собирался с мыслями.
Вскоре за ним пришел отец Франсуа, и они отправились в трапезную монастыря, где и должно было состояться торжественное собрание. Очевидно, эта зала, за неимением лучшей, всегда служила местом действия во всех важных случаях.
Войдя под сумеречные своды, Жиль учтиво поклонился высоким гостям и сел на место, указанное ему аббатом.
Все жители монастыря были уже в сборе. Рядом с настоятелем, любезно улыбавшимся приезжим сеньорам, в задумчивости сидел брат Колен, положив переплетенные пальцы на стопку бумаг, которая возвышалась перед ним на столе.
Подальше от них, в тени большой оконной ниши, расположились братья Ульфар и Жозеф. Фламандец, по своему обыкновению, был спокоен и отрешен от всего происходящего. Побледневшее и подурневшее от бессонной ночи лицо сарацина, напротив, выдавало сильное внутреннее волнение. Темные тени залегли под глазами, брови сурово сдвинулись. Носком башмака он нервно постукивал по сырому, каменному полу.
Брат Ватье, который в числе прочих работ, исполнял еще и роль привратника, стоял у дверей и объявлял имена и титулы важных гостей, сокращая их до односложных обозначений по каким-то, известным лишь ему одному, странным правилам.
Кроме уже знакомых ему монахов, Жиль также заметил в зале еще несколько человек, которых он пока не знал. Судя по их богатой одежде и властным жестам, это и были местные сеньоры.
Прямо напротив брата Жозефа сидела роскошно одетая рыжеволосая дама. Ее резкие движения и настороженное выражение лица выдавали такое же нервное напряжение, какое владело сарацином.
За спинкой кресла прекрасной дамы, звеня оружием и шпорами, расхаживал по зале сильный и статный человек лет сорока. Взгляд его был уставлен в пол, густые брови грозно и нетерпеливо хмурились. Крупные и жесткие черты лица выдавали присущую ему решительность и прямолинейность. Темно-русые волосы в живописном и пугающем беспорядке падали на лицо. Сильной рукой, затянутой в грубую кожаную перчатку, сеньор крепко сжимал рукоять висевшего у него сбоку тяжелого, старого меча, не расставаться с которым, по-видимому, давно вошло у него в привычку.
По левую руку от аббата сидел просто и скромно одетый старый господин, имевший вид небогатого мелкого вассала, проведшего жизнь в постоянных походах, но не получившего за свои труды почетной награды. На спокойном и немного грустном лице старика, обрамленном прямыми седыми волосами, лежала печать усталости и смирения. Подобно сеньору, расхаживавшему по зале, он так же не расстался со своим большим, старым мечом, поставив его рядом с креслом.
Должно быть, все собравшиеся дожидались еще кого-то, так как совет все не начинался.
Эта догадка Жиля вскоре была подтверждена словами брата Ватье, который, широко распахнув дверь, объявил в своей лаконичной манере:
– Граф.
Если бы солнце наконец пробилось сквозь мрачные зимние тучи, вряд ли оно принесло бы с собой больше света и блеска, чем великолепный, сверкающий сеньор, появившийся на пороге. На пышном, шикарном плаще и ярком, алом берете серебристыми точками сверкал тающий иней. Высокую, стройную фигуру графа облегало двухцветное, красное с белым, блио, расшитое золотой нитью, и такого же цвета шоссы. Изящество и грациозность красивых, белых рук подчеркивали длинные, разрезные рукава и тонкие перчатки. Походка и жесты сеньора де Леруа отличались уверенностью, придворной, изысканной размеренностью и церемонностью. Граф точно не шел по зале, а нес себя, как великую драгоценность. В презрительно и высокомерно прищуренных светлых глазах читалась огромная гордость, глубокий ум и властность. Красивые и правильные черты лица поражали величием и надменностью прирожденного властителя, с детства привыкшего к роскоши и исполнению своего малейшего каприза.
Граф был не один. Но из-за эффекта, произведенного его блистательным появлением, второго его спутника совсем нелегко было заметить. Это был тонкий, хрупкий юноша лет восемнадцати-двадцати, облаченный в черный, пышный наряд, который еще сильнее подчеркивал его природную бледность. Скучающее и рассеянное выражение его лица составляло удивительный контраст с живым и проницательным выражением графа.
При появлении сеньора де Леруа все собравшиеся в зале поспешно встали и застыли в глубоких, почтительных поклонах.
Граф ответил милостивым кивком и занял место за главным концом большого, терявшегося в полумраке стола.
– Мы можем начинать, – произнес Гильом де Леруа мужественным, но в то же время мягким и приятным голосом. – Где посланник почтенного бальи?
Жиль снова встал и отвесил графу второй поклон.
– Уважаемый мэтр, – продолжал граф, – наша старая тяжба состоит в том, что мадам Сесиль, баронесса де Кистель, – тут он указал на рыжую женщину, – оспаривает права мессира Жозефа, сеньора де Сойе, – последовал жест в сторону сарацина, – на Волчье Логово.
Конец фразы показался молодому человеку до того нелепым, что он удивленно переспросил:
– Волчье Логово? Что это значит?
– Это название, которое люди в здешних краях дали моему старому замку, – раздраженно перебил его сарацин. – То ли потому, что кто-то из моих древних предков был диким и необузданным, как зверь, то ли просто потому, что рядом находился лес и к замку часто подходили волки… Мало ли чего не выдумает темный люд! К делу все это не относится…
– Хорошо, хорошо, – примирительным тоном ответил Жиль. – На каком же основании благородная баронесса оспаривает права мессира Жозефа? Она состоит с ним в родстве?
– Да, – тихо обронила мадам де Кистель, – вы правы. Я кузина Жозефа де Сойе. Наши отцы были родными братьями…
– К несчастью, – со вздохом вырвалось у сарацина.
Жиль начинал понимать все меньше и меньше. Как могли быть родственниками эта бледная женщина и смуглый, черноволосый язычник?
– Мой отец, Робер де Сойе, был младшим братом Жана де Сойе, отца Жозефа. Он женился на дочери соседнего сеньора, мессира Фастре де Пре, Жанне де Пре. Я их дочь и наследница.
– Вы являетесь единственной наследницей, мадам? – учтиво осведомился Жиль. – У вас больше нет братьев и сестер?
– Мой брат, Филипп де Сойе.., – еле слышно вымолвила баронесса.
– Где же он?
– Он умер, – раздался мрачный голос сарацина.
Сесиль разразилась диким, истерическим смехом. Все присутствующие невольно вздрогнули.
– Замолчите, черт вас возьми! – грубо крикнул сеньор с тяжелым мечом и в кожаных перчатках. – Я привез вас сюда не для того, чтобы смотреть ваши полоумные представления и слушать глупые капризы!
Мадам де Кистель повиновалась с явной неохотой. Ее плечи все еще продолжали судорожно вздрагивать от подавленного смеха.
– Если я правильно понимаю, – снова начал Жиль, – вы мессир Жозеф, сын Жана де Сойе и его жены?
– Его второй жены, – поправил монах, и голос его дрогнул.
– Вот как… Ну что ж, благородная баронесса дочь младшего брата, а замок принадлежит старшему и его наследникам. Ведь в здешних краях существует майорат3? Что говорят об этом кутюмы4 вашей местности?
– Да, майорат здесь существует, как и в соседних землях, – отвечал граф де Леруа. – Но вам следует еще учесть, достойный мэтр, что покойные сеньоры де Сойе приносили оммаж5 моему отцу, будучи его вассалами. Я хочу сказать, что земли де Сойе являются старинным фьефом6 графства Леруа.
– О.., – протянул несколько озадаченный племянник бальи. – Постойте, монсеньор. Позвольте мне сначала разобраться с правом наследования. Итак, замок принадлежит наследникам Жана де Сойе… а это мессир Жозеф. У вас ведь нет других братьев?
– Был. Он тоже мертв.
От этих кратких и загадочных ответов сарацина и от взвинченного состояния баронессы атмосфера становилась все более мрачной и напряженной.
– Таким образом, единственный наследник замка де Сойе мессир Жозеф, это все…
– Нет, не все! – воскликнула мадам де Кистель. – Как вы могли заметить, Жозеф сменил костюм сеньора на одеяние монаха. К чему ему теперь его наследственные земли?!
На глазах дело становилось все более запутанным и неразрешимым…
– Вы забываете, мадам, – вмешался отец Франсуа, – что, когда мессир Жозеф вступил в нашу скромную братию, он принес свои земли в дар святой обители.
– Проклятье! – прогремел господин, несколько минут назад повздоривший с мадам де Кистель. – А какое право имел этот чертов язычник завещать порядочные земли поповской братии?!
– Я прошу вас не вмешиваться, сеньор де Кистель, – жестом приподнятой руки остановил его граф.
Несчастный горожанин почувствовал, что начинает медленно приходить в отчаяние.
– Это правда, мессир Жозеф? Вы подарили ваши владения монастырю?
Сарацин угрюмо кивнул.
– У меня есть бумага, подписанная мессиром Жозефом, которая удостоверяет этот дар, – вставил брат Колен, протягивая Жилю старую бумагу.
– А владения, отданные Господу Богу не могут больше принадлежать несчастным грешникам, – прозвучал из-под капюшона замогильный голос брата Ульфара. – Земли, находящиеся под покровительством нашей Святой Матери Церкви, уходят из-под власти дьявола, который правит в умирающем мире…
– Насколько мне известно, – робко начал Жиль, – в некоторых местах запрещено передавать земли в дар Церкви, ибо это влечет за собой «умерщвление лена»7…
– Подобного запрета в наших кутюмах нет, – резко перебил его брат Колен, бросив в сторону горожанина недовольный взгляд.
– Кто дерзнет оспаривать владения у самого Всевышнего?! – грозно воскликнул Ульфар. – Эти земли получил в дар сам святой Ремигий, наш великий и милосердный покровитель!
– Да плевал я на вашего святого со всеми его гнилыми костями! – взревел барон де Кистель, так треснув по столу кулаком, что тот заскрипел, а все собравшиеся вздрогнули от неожиданности. – Это проклятое Волчье Логово, это совиное гнездо, или как его там, принадлежит моей жене!
– Только через мой труп! – воскликнул брат Жозеф, стремительно вскакивая с места. – Мой замок никогда не достанется Сесиль де Кистель, дочери того проклятого человека! Лучше пусть я буду гореть в аду!
– О да! – вскричала баронесса, впившись в сарацина пристальным, издевательским взглядом, который как будто с наслаждением подмечал незримые признаки тления на его лице. – О да! Ты будешь гореть в аду! Я вижу над твоей головой мрачные черные крылья смерти! Посмотри на себя, скоро ты будешь тлеть в могиле, а я с моим мальчиком буду владеть замком де Сойе! Ты разрушаешься и умираешь заживо! Это твое наказание, Жозеф! Наказание за твою преступную жестокость!
– За мою преступную жестокость?! Где был равнодушный Бог, когда твой отец отнял у меня все и разрушил мою душу! Десять лет она истекает кровью! – и брат Жозеф с силой ударил себя кулаком в грудь. – Десять лет и тысячу дней я умираю по крохотной частице моего существа! Будь ты проклята, Сесиль!
– Будь проклят ты и весь твой род!
– Но это и твой род тоже!
– Да подавитесь вы оба своими бреднями! Рога дьявола! Мне нужно Волчье Логово!
– Не забудьте про оммаж! Это фьеф графства Леруа!
– Дерзкие грешники! Как смеете вы отбирать земли у Бога?!
– У меня есть грамота!
– Можешь ее сожрать, старый поп! Да чтоб ваш чертов монастырь провалился вместе с вашим поганым сарацином!
– Не раньше, чем обвалятся своды твоего замка!
– Ты будешь гореть в аду!
Неистовые выкрики и вопли смешались в одно. Больше невозможно было разобрать ни слова. Искаженные лица пылали дикой, неукротимой вековой яростью и злобой. В пылу ссоры барон де Кистель и брат Жозеф обменивались ужасными, кощунственными ругательствами. Лицо барона дышало свирепостью вепря, лицо сарацина – жестокостью хищной птицы. С брата Ульфара слетел капюшон, великолепная прическа баронессы де Кистель растрепалась, и теперь на ее искаженное бешенством лицо, точно языки пламени, падали длинные огненные пряди. Даже граф Леруа, аббат, старый сеньор и сын графа больше не могли сохранять спокойствия. Они тоже что-то возбужденно выкрикивали с пылающими лицами…
С ужасом и глубоким отвращением смотрел Жиль дель Манж на разыгравшуюся перед его взором уродливую сцену. Разве эти пылающие жаркой ненавистью глаза, разве эти перекошенные лица могли принадлежать блестящим благородным сеньорам и святым, благочестивым братьям?! Да человеческие ли существа перед ним?.. Кажется, еще немного и они вцепятся друг другу в горло, как голодные, злобные волки… Быть может, только днем принимают они человеческое обличие, чтобы жить среди людей… А ночью рыщут по пустым, заброшенным дорогам в поисках свежей, горячей крови…
А резкие и охрипшие от ярости голоса не смолкали. В сумрачной зале становилось все темнее и темнее. За окнами густой стеной валил частый, сверкающий, белый снег…
VI. Витражи
С горящих яркими красками фресок на обширной стене смотрели бы на тебя, сквозь сумрачную листву платанов, ясные, полные жизни очи святых.
Э. Т. А. Гофман «Эликсиры Сатаны»
Высокие окна хоров поднимали над черными драпировками свои стрельчатые верхушки, стекла которых, пронизанные лунным сиянием, были расцвечены теперь только неверными красками ночи: лиловатый, белый, голубой – эти оттенки можно найти только на лике усопшего.
Виктор Гюго «Собор Парижской богоматери»
Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно.
Н. В. Гоголь «Вий»
Разумеется, на собрании ничего определенного не решили. Безумием было бы надеяться в один день разрешить этот старинный, жестокий спор. Теперь Жиль это понял…
Медленно расходились благородные гости, продолжая обмениваться недобрыми, угрюмыми взглядами, в которых пламя ненависти, казалось, не утихало ни на миг… Настоятель провожал их со всевозможными почестями.
Потом он подошел к графу Леруа и вежливым, но усталым голосом напомнил ему, что недавно граф выражал желание осмотреть новые витражи в церкви. Несмотря на поздний час, Гильом де Леруа согласился и велел сыну следовать за ним. Юноша исполнил приказание отца неохотно. Очевидно, красоты витражей интересовали его куда меньше, чем графа.
Уставший и подавленный, Жиль тоже попросил разрешения пойти со всеми в церковь, что было ему тут же позволено.
При мягком, матовом свете снежного вечера храм уже не казался таким мрачным, каким он предстал перед взором горожанина в первый раз. Чуть заметное свечение, разливавшееся по старой церкви, было светлого, нежно-голубого цвета. Оно напоминало таинственный лунные лучи в теплую, летнюю пору, когда мошкара танцует у яркого пламени свечи… Искры, вспыхивающие на многочисленных витражах, блистали ровным, золотистым оттенком. Под изящными, высокими сводами было гораздо светлее. На этот раз вся обстановка рождала возвышенные мысли, дарила жизнерадостное настроение и манила надеждой…
В церкви аббата и графа Леруа уже ожидала вся скромная братия. Брат Колен выступил вперед и почтительно произнес:
– Сегодня монсеньор сможет взглянуть, на какие благочестивые дела идут его щедрые пожертвования. Наша несчастная обитель часто подвергалась бедам и испытаниям. Не успела она отстроиться, как половину витражей уничтожил внезапный пожар, а другую – грозная буря… Но, с Божьей помощью, мы понемногу восполняем эту потерю. Увы, монастырь наш скромен и беден, у нас не хватает средств, чтобы нанять какого-нибудь знаменитого художника для росписи витражей. Поэтому нам приходится довольствоваться услугами брата Ульфара и брата Жозефа, которые обучены этому искусному ремеслу. Идемте, монсеньор, они покажут вам свои незатейливые творения.
Возле одной стены, прорезанной рядом высоких окон, стоял Ульфар, спрятав руки в широкие рукава сутаны и пристально глядя на свои рисунки, покрывавшие цветные стекла.
Сеньор де Леруа стал с увлечением разглядывать сиявшие перед ним серебристые витражи.
На первом окне была изображена святая Троица во всем своем неземном блеске и величии. Она как бы открывала длинный ряд остальных картин, на которых мощным и широким потоком развертывалась библейская история.
Все начиналось с сотворения мира, с цветущих райских садов, изобилия живности и диковинных трав. Но светлые и мирные краски очень быстро сменялись более драматичными и темными.
Вот вздорная, легкомысленная и злонравная Ева с преступным удовольствием слушала сладкие речи лукавого Змия. На ярких устах ее играла смутная, сладострастная улыбка. А Змий с человеческой головой изящно изгибался вокруг ствола могучего зеленого дерева. Ева грациозно склоняла к нему свою хорошенькую и глупую голову…
Следующая картина повествовала об изгнании своевольных и неразумных людей из светлого и прекрасного рая. Несчастный Адам, погубленный своей коварной супругой, рыдая, закрывал пылающее от стыда лицо. Ева же, обернувшись к зрителям, торжествующе и дерзко улыбалась.
Эти драматичные сцены как бы говорили людям, созерцавшим их, о краткости и непрочности человеческого счастья, о порочности женской природы, о греховности и безумии людей, не имеющих сил противостоять хитрым и тонким ухищрениям Сатаны. Они призывали быть настороже: повсюду грех, порча и погибель!
Другой витраж со всей беспощадностью живописал ужасы всемирного потопа. Огромные, свирепые волны неудержимой стихии вздымались до небес. На лицах людей застыли отчаяние и жестокий страх, руки были подняты в напрасной мольбе… Чудовищные волны, то тут, то там разлучали мать с ребенком, жену с мужем, брата с сестрой… А где-то на заднем плане картины виднелся маленький Ноев ковчег, счастливо избегший неистовства стихии и стремящийся к новой, безгрешной жизни…
И опять картина говорила о хрупкости и скорой гибели ужасного, грешного мира, о ничтожности и безумии рода людского… И спасутся единицы из тысяч! Но кто из нас праведник?
Грандиозное зрелище всемирного потопа сменялось изображением светлой и дивной лестницы Иакова, явившаяся ему в пророческом сновидении. Бесплотные, прозрачные души, прилагая усердные усилия, устремлялись по ней ввысь. Но достигнет ли хоть одна из них конца нелегкого пути?.. Вершина божественной лестницы терялась и таяла в необъятных, холодных небесах…
Далее взор останавливался на юном Давиде, попиравшем ногою тело поверженного чудовищного Голиафа. В чертах победителя читалось жестокое торжество, без проблеска милосердия к павшему врагу… Не так ли и великая церковь Христова в конце концов одержит победу над язычниками, святотатцами и еретиками, над всеми подлыми врагами христианской веры?..
Следующий витраж являл несчастного прокаженного Иова, восседающего на гноище, и в своем ужасном и невежественном ослеплении посылающего жалобы Всевышнему. Страдальческое лицо и удивительная худоба Иова вселяли в душу зрителей тревогу и печаль… Как жалок и ничтожен всякий смертный, как он полон мерзости, как горька его заслуженная доля!
На этом ветхозаветная история на рисунках брата Ульфара заканчивалась, и начинались эпизоды из жизни Иисуса.
На сценах детства Христа Ульфар не останавливался, с самого начала он живописал удивительные и великолепные чудеса, совершенные Спасителем за время его пребывания на земле. На одном витраже их было представлено множество: Иисус то воскрешал погребенного Лазаря, то усмирял бесноватого, то излечивал безнадежных больных, то изгонял бесов, вселившихся затем в стадо свиней… На все эти удивительные и великие деяния с трепетом взирала пораженная и потрясенная невежественная толпа.
Далее шла вдохновенная проповедь апостола Павла. Седобородый старец с суровым и замкнутым лицом произносил пылкую, мрачную речь, неистово сверкая очами…
Два окна еще продолжали оставаться почерневшими от пожара и не расписанными заново.
С последнего же витража на смущенных зрителей взирал грозный, вопрошающий, неумолимый Иисус на Страшном суде во всем блеске своего величия и славы. Его окружало темное, грозовое облако, и сами очи, казалось, метали молнии, готовые испепелить несчастных грешников, простертых у его ног. Берегитесь, смертные, близок, близок час заката и гибели этого умирающего мира! Близок суд, близки ужасы пылающего ада!
Все рисунки брата Ульфара поражали редкой правильностью и гармонией линий, неподвижностью и величием застывших поз, суровостью и отрешенностью лиц и тягостной мрачностью колорита. Они были окрашены в синие и темные, холодные тона, кое-где разбавленные белым и серебристым. Горько и печально становилось на сердце у людей, когда они созерцали его творения. Стыд и страх поселялись в душе. Стыд за свою грешную, неисправимую природу и страх перед грозным божьим судом и ужасами огненного ада…

